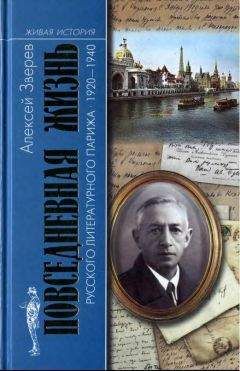В прошлом они были преимущественно или военными, или людьми умственного труда. Но на такие профессии не находилось спроса, если не считать Иностранного легиона, который всегда нуждался в пополнении. Самые отчаявшиеся и опустившиеся записывались в него и ехали усмирять мятежных туземцев куда-нибудь в тропики, многие — на верную смерть. Русских, однако, в легионе было немного. Изгнанники старались подыскать себе другое, не такое опасное и презираемое ремесло.
Чаще всего они становились рабочими. Автомобильные и сталелитейные заводы в парижских пригородах росли как на дрожжах, а вместе с ними росли кварталы и поселки, населенные почти исключительно алжирцами или русскими. Один такой пригородный район, Биянкур, описала в серии рассказов, больше напоминающих зарисовки с натуры, Нина Берберова. Петербургская поэтесса, в юности посещавшая студию Гумилева, многодетная спутница Владислава Ходасевича, который привил этому дичку истинный литературный вкус, выпестованный русской классикой и новой европейской литературой, Берберова с конца 20-х годов начала печатать в «Последних новостях», где служила секретарем, цикл «Биянкурские праздники», сразу обративший на себя внимание. Читатели узнавали в героях самих себя и свою будничную жизнь.
Тридцать лет спустя Берберова вспоминала, как поздно вечером в вагоне метро она оказалась с большой компанией русских, которые ехали с какого-то праздника домой, в Биянкур. Все они, узнав ее, начали перешептываться, поворачиваясь к ней головами. Тогда она в первый раз почувствовала, что такое литературная известность.
Люди, о которых писала Берберова, — в большинстве своем бывшие кадровые офицеры, а нередко и аристократы, — говорят каким-то странным, испещренным неправильностями языком, точно бы с детства их общество по преимуществу составляли жильцы ленинградских коммуналок, оставшиеся в истории благодаря Зощенко. Тогда Зощенко был очень популярен и у эмиграции — Берберова сама признает, что его следы различимы в рассказах биянкурского цикла, — однако дело все-таки не в литературных влияниях. Дело в том, что, перевернув былую жизнь, революция сделала архаичными, вывела из употребления целые языковые пласты, а на их место явились другие, выражающие новую реальность, которая и мыслить, и чувствовать, и говорить заставляла тоже по-новому. Во многом сглаживались прежние резкие различия по социальному статусу и культурному уровню. Став к станку у Рено, бывший присяжный поверенный или губернский предводитель дворянства через год-другой начинал говорить точно так же, как заброшенный в Биянур и тоже очутившийся у конвейра костромич-приказчик или кубанец, у которого за плечами три класса приходской школы. И о том, что случилось с Россией, подобная нивелировка сказала с необычайной выразительностью.
Зощенко на родине и Берберова в эмиграции осознали это едва ли не раньше всех. Вот отчего обратили на себя внимание не такие уж замысловатые берберовские рассказы. Они были интересны не только описываемыми картинами и ситуациями, но едва ли не в первую очередь необычной стилистикой, в которой отчетливо проявлено время.
А о ситуациях, послуживших ей материалом, в автобиографии «Курсив мой» Берберова написала так: «Русские нищие, пьяницы, отцы семейств, рабочие Рено, певцы, поющие во дворах, деклассированные чудаки. Был рассказ о двенадцатилетней девочке, подобравшей чужого ребенка, о бывшей графине, стоящей в воскресенье на паперти православного собора… о генералах, подающих в ресторанах».
Биянкур — несколько невзрачных кварталов между Сеной и Булонским лесом — в 1927 году, когда Берберова его для себя открыла, напоминал московскую фабричную окраину где-нибудь у Рогожской заставы. Повсюду русские бакалейные лавки, где продаются карамель «Москва», квас, соленые огурцы, а по углам висят иконы и хохломские ложки. Повсюду русские ясли и школы, православные соборы, где по старому календарю отмечаются все церковные праздники. Есть ресторан «Медведь», где поют цыганки и, случается, выходит к публике старушка Прасковья Гаврилова, когда-то восхищавшая московских гуляк. Есть другой ресторан, «Славянский базар», куда любят приходить деникинские и врангелевские солдаты: у каждого полка здесь свой стол. Есть русское кладбище, быстро растущее. Там перед самой войной похоронят Ходасевича, последние свои годы жившего неподалеку от Биянкура.
Селились в общежитиях, в бараках или дешевых отелях, обычно по несколько человек в номере; предпочитали гостиницы рядом с цехами Рено — вокруг площади Насьональ, на улицах Сольферино, Траверсьер, Сен-Клу. В выходные, после церкви, любили собираться где-нибудь в «Харькове» или «Крыме», где устраивались бесплатные лекции на исторические и культурные темы (их читали приезжавшие из Парижа именитые русские ученые) и шли дискуссии на темы политики.
От французской политики Биянкур старался держаться в стороне. Даже забастовки, как правило, проходили без участия русских рабочих. Времена были суровые: с 1929 года мир охвачен экономическим кризисом невиданных масштабов, — а русской диаспоре приходилось особенно туго. Концерны Рено и Пежо хотя бы предоставляли своим служащим льготы при оплате жилья и еще кое-какие социальные выгоды, о каких не могли и мечтать те, кто работал на химических предприятиях где-нибудь в провинции. Следовало ценить удачу, выпавшую обитателям Биянкура. Тем более что и с документами не у каждого все было в порядке, а натурализация, получение гражданства представляли собой длительную процедуру.
Те, кому не судьба была стать новым русским пролетариатом, обычно пытались заработать на жизнь, открывая маленькие кафе или кабаре с программой, занимаясь мелкой торговлей и пробуя каким-то образом внедриться в индустрию развлечений, которая тогда, в 20-е годы, расцвела пышным цветом. Русские ресторанчики на Монмартре, где перед входом красовался непременный кавказец в черкеске, а балалаечники на эстраде щеголяли начищенными сапогами с напуском, стали обязательной приметой французской столицы в первые же годы после мировой войны.
Полистав полосы рекламы в «Последних новостях» или в другой крупной газете — «Возрождение», можно ощутить, какую активность проявляли русские негоцианты, которые внедрялись на парижский рынок досуга. Вот несколько газет за февраль 1928-го, когда еще остается полтора года до начала мирового кризиса, парализовавшего всю эту деятельность. «Большой московский эрмитаж» сообщает, что он теперь расположен в самом центре Парижа на рю Комартен 24; программу украшает неподражаемая исполнительница русских песен Надежда Плевицкая. В кинотеатре «Омниа» на бульваре Монмартр перед сеансами в программе «Nostalgie» поет казачий хор Скрябина, а затем демонстрируется «большой фильм из жизни русских за рубежом». Рестораторы стараются привлечь каждый свою публику. Среди бесчисленных объявлений адвокатов, у которых прежде была своя контора вблизи Пяти углов, и дантистов, чью вывеску помнят старые одесситы, любившие гулять по Ришельевской, попадается такое: «Владикавказских кадетов приглашают на еженедельные встречи в кафе по рю де Комперс, угол рю Летелье». Книжный магазин Л. Поволоцкого (рю Бонапарт 13) распространяет билеты на концерты, лекции, вечера, а в книжном магазине «Маяк» (рю Ложье 3) завели буфет с очень низкими ценами. Кабаре «Казбек» на авеню де Клиши 12 ангажировало Александра Вертинского, выступления ежевечерние, кроме понедельника. В концертах участвует известный исполнитель цыганских песен Юрий Морфесси, которого когда-то приглашал на свою яхту последний российский император. Сюда, в «Казбек», где по стенам стояли на полках серебряные чаши и кубки с орлами, часто захаживал великий князь Борис Владимирович со свитой титулованных знакомых.
Жизнь бьет ключом: рядом с объявлением «известной гадалки Зины», которая просит пожаловать к ней на рю Пепийон, анонс предстоящего концерта Шаляпина в театре Елисейских Полей и ежегодного бала Союза русских художников в зале «Олимпия». Рядом с «прославленным оркестром Арнольди», который можно услышать в кабаре «Тройка», и сообщением про партию самоваров, полученную чайным магазином товарищества «Кузьмичев с сыновьями» — авеню Виктор Гюго 11-бис, метро «Этуаль», — программа вечера Алексея Ремизова (собственные произведения в первом отделении, Толстой и Чехов — во втором). И — крупными буквами — сенсационное известие о том, что на рю Пигаль возобновлен «Яр», в точности как тот, московский. С участием самой Насти Поляковой, которой поклонники подносили брильянты, когда рушился, катился под откос весь привычный российский порядок вещей. Смуглая, статная Настя Полякова в ее знаменитом платье огненных оттенков, пронзительные ее песни — «В час роковой», «Ах да невечерняя» — как часто об этом вспоминали на чужбине, пока не распахнул свои двери парижский «Яр». Вертинский описывает в мемуарах ее чудесное контральто и говорит, что она была настоящий «цыганский соловей».