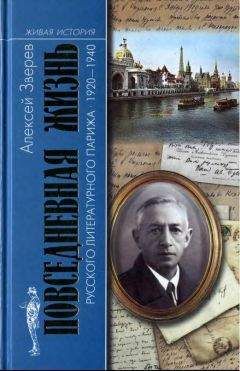Однако Вертинский, хоть он и называл себя усталым старым клоуном, на самом деле был как дома «в вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю». Глава о Париже в его мемуарах заканчивается описанием встречи с одним французским сенатором, которому Вертинский «доказывал преимущества и силу новой, советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада». У покаявшихся чтобы вернуться можно прочитать и не такое, однако сняться с места, двинуться на Восток Вертинского побудили отнюдь не какие-то «смутные надежды», питаемые приближением к советской границе. Надежды придут позднее, а пока Вертинский просто уловил, что золотая пора русского Парижа кончается. Шел 1934 год. В Европе делалось неспокойно. Народный фронт выводил тысячи своих сторонников на парижские улицы, шли митинги протеста против очень явной угрозы наступления фашизма. Искусство Вертинского становилось невостребованным и ненужным.
Надеясь на карьеру в Голливуде, он уехал в Америку, потом в Шанхай и осенью 1943-го, окончательно порвав с эмиграцией, получил разрешение вернуться в Москву. Послевоенные массовые репрессии, когда погибли и многие из репатриантов, по счастью, обошли Вертинского стороной. По книге воспоминаний невозможно судить о том, какие чувства были у него преобладающими в последние четырнадцать лет жизни, проведенных в СССР. В книге одни сожаления о годах, растраченных на чужбине, и ликованья по тому поводу, что автор наконец-то «превратился в настоящего советского гражданина».
Известно, что какое-то время Вертинский вынашивал идею киносценария об эмиграции, хорошо, что не осуществившуюся: с неизбежностью получилось бы что-нибудь наподобие «Эмигрантов» Ал. Толстого. Он думал назвать сценарий «Дым без отечества».
Это был плагиат, хотя, может быть, неосознанный. «Дым без отечества» — заглавие книги стихов и юмористических скетчей Дон-Аминадо, первой его книги, появившейся в эмиграции. Она вышла в 1921-м. Автор уже год жил в Париже.
Он покинул Одессу на французском пароходе 20 января 1920-го. Пока пароход стоял в порту, на нем случился пожар, выгорели трюмы и палуба. Места брались с боя, времени у беглецов было совсем в обрез. Легко подписывали бумагу, удостоверяя, что в случае аварии претензий предъявлено не будет. Доносилась пальба: красноармейские разъезды были уже в черте города.
Одесса начала пустеть задолго до их приближения. Умевшие просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед покинули город заблаговременно. Ал. Толстой бежал еще летом на пароходе Добровольческого флота. В повести «Ибикус», первом своем произведении, написанном после эмиграции, он заставил героя, Семена Невзорова, пережить в Одессе появление красных, вернее, отрядов атамана Григорьева, который был то с красными, то с петлюровцами, то сам по себе. Тогда, в апреле 1919-го, — автор все это видел своими глазами, — началась паника. Армия отходила к Румынии, союзники грузились на транспорты. «По набережной, мимо герцога Ришелье, двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы». А тысячи мечтающих о бегстве плечом к плечу стояли в порту, вздыхая о райских странах, «где нет ни революций, ни эвакуаций».
Веселых чернобородых матросов в пулеметных лентах вскоре выбили из города, но чувствовалось, что это ненадолго. Хотя после российской разрухи Одесса выглядела благополучной, тут старались не задерживаться. В Доме артистов, занявшем пустующие за ненадобностью залы биржи, кончились гастроли Вертинского. Куда-то исчезли спекулянты, которые дни напролет просиживали в кафе Фанкони, а на бульварах уже не видно было щеголеватых офицеров, которые любовались морем, потягивая крюшон из белого вина с земляникой.
Через неделю после Шполянских, с которыми они особенно подружились в эмиграции, Одессу покинули — на «Спарте», которая тоже шла под французским флагом, — Бунины. Чувства они испытывали одни и те же. Вот Дон-Аминадо, «Поезд на третьем пути»: Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной. И те, кто стоял наверху, на обгоревшей палубе. Каждый думал про свое, а смысл был один для всех:
Здесь обрывается Россия
Над морем Черным и глухим.
А вот Бунин, рассказ «Конец», датированный «Париж. 1923-го» (напечатан был в марте 1923-го под заглавием «Гибель»), Пароход, загроможденный вещами, забитый беженцами, уже претерпевшими столько «потерь и бед, смертельных опасностей, жутких и нелепых случайностей… крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости». Сумрачная зимняя мгла, оставшийся позади темный, мертвый маяк, и все боятся думать «о том страшном морском пути… одной трезвой мысли о котором было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния». В разыгравшийся шторм швыряет из стороны в сторону старый, перегруженный корабль, всюду запах рвоты, пахучим холодом пронизывает завывающий ветер, и бьется, не отпускает все одна и та же мысль: «Я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец».
Бунины добирались до Парижа сложной, кружной дорогой: после Константинополя были еще София и Белград, где удалось достать французские визы. Шполянские после непродолжительного стамбульского карантина проследовали в Марсель. А там сразу на поезд и вот со своими потертыми чемоданами они уже стоят на площади у Лионского вокзала, в Париже. Мысли, знакомые всем русским странникам, добравшимся до Парижа, Дон-Аминадо выразил в одном из нечастых у него лирических стихотворений:
Не ты ли сердце обогреешь,
И, обольстив, не оттолкнешь?
Поначалу твердо верилось, что, конечно, так оно и будет: Париж обогреет, принесет, наконец, не только передышку, а чувство успокоения, примирит с судьбой, пославшей столько бедствий. Эмигрантские дневники Веры Буниной открываются — 4 апреля 1920 года — записью: «Понемногу прихожу в себя… Париж нравится… Устроены превосходно». Устроили их у себя близкие знакомые по Одессе поэт Михаил Цетлин-Амари и его жена, богатые люди, которые многим помогли в те тяжкие времена. Помогали и «красному графу», вместе с которым уехали из Одессы пароходом в Константинополь и прошли через карантин на острове Халки, куда прежде турки свозили бездомных собак и оставляли там на гибель от голода. В «Ибикусе» эти мытарства описаны графом красочно, выразительно и еще без привкуса подлости, который станет очень отчетливым несколько лет спустя, когда он возьмется за «Эмигрантов».
Шполянские, прибывшие чуть раньше Буниных, направились в русское посольство на рю Гренель: его по-прежнему возглавлял Василий Маклаков, назначенный Временным правительством за несколько недель до октябрьского переворота. А из посольства пошли к Бурцеву в «Общее дело».
Портрет Бурцева в мемуарах Дон-Аминадо один из самых ярких, хотя с «Общим делом» он почти не сотрудничал, сразу отдав предпочтение милюковским «Последним новостям». Бурцев «обласкал, обнадежил… дал сто франков в виде аванса» и больше всего поразил своим «упрямством, упорством, близоруким долблением в одну точку». У него было плохо со зрением, он казался беспомощным — чем не повод для насмешек, которыми Бурцева отблагодарил автор «Эмигрантов», немалым ему в свое время обязанный? — но на самом деле волей обладал поистине железной. «Выпил в Ротонде немало черного кофе с Лениным и Троцким, которых ненавидит тихо и упорно… Добрые глаза, козлиная бородка, указательный палец желт от курева, рукава на кургузом пиджачке короткие, штаны страшные, а штиблеты такие, что наводят панику на окрестности… После октябрьской революции получил звание наемника Антанты и общественного врага номер первый».
И в Париже он продолжал разоблачать бывших агентов и провокаторов, которые теперь похвалялись своим непримиримым антибольшевизмом (об одном таком разоблачении упоминает Бунин в дневниковой записи 1921 года). А в «Общем деле» вплоть до его закрытия в 1934-м убежденно предрекал неминуемый крах режима, установившегося в совдепии. Тем временем его сотрудник Ал. Толстой, ожидавший большого гонорара от недолговечного журнала «Грядущая Россия», куда он отдал первые десять глав «Хождения по мукам», целые часы простаивал перед витринами, которые ослепляли роскошью, и, по свидетельству Дон-Аминадо, грезил о том, как купит сразу шесть пар башмаков: «Чем я хуже Поля Валери, который переодевается по три раза в день, а туфли чуть ли не каждые полчаса меняет?!» Умеет ли поэт Поль Валери, помимо переодеваний, писать яркие стихи, графу было неинтересно.
Население городка на Сене в ту весну 1920 года росло что ни день, и что ни день яснее становилось, какое это разношерстное население. Название «городок» придумала для русского Парижа Надежда Тэффи, давняя знакомая Дон-Аминадо. Они оба сотрудничали в «Сатириконе», она еще в первом, который выходил с 1908 года, он — в новом, издававшемся с 1916-го, — и обоих лихие времена забросили в Одессу, где Тэффи поселилась в Лондонской гостинице, в номере, который до нее занимал Бурцев. В оконченных через десять лет «Воспоминаниях» Тэффи заметила про свое одесское пребывание: «Жить в анекдоте не весело, скорее трагично». И описала это житье несколькими выразительными штрихами: постоянный всевластный страх, терроризирующие город бандиты, у которых собственное государство в катакомбах, но при всем том театры и клубы переполнены, а в карты проигрываются миллионы. Потом, возвращаясь домой ночью, засовывают за щеку или в носки последнее уцелевшее кольцо.