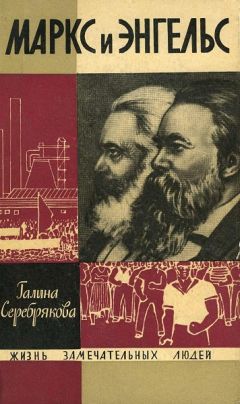Впервые в жизни на четыре с половиной месяца покинуть родину, посетить Женеву и Цюрих, Париж и Берлин, встретиться со многими интереснейшими людьми - это событие, особенно если тебе всего двадцать пять лет и ты еще нигде не бывал, кроме Москвы, Петербурга, трех-четырех губернских да нескольких уездных городов. И он всю дорогу от Берлина обдумывал это событие, перебирал в памяти встречи, беседы, увиденные города, прочитанные книги - книги, которых не достать в России...
Что было самым глубоким и ярким впечатлением поездки? Что больше всего запомнилось? Может быть, красота швейцарской природы? О ней он сразу же по приезде в Женеву написал матери в Москву: "Природа здесь роскошная. Я любуюсь ею все время".
Особенно же благодатную возможность вдосталь налюбоваться швейцарской природой он имел в санатории под Цюрихом, где провел недели полторы, стремясь по совету врачей немного подкрепить здоровье после воспаления легких, перенесенного ранней весной в Петербурге. Слов нет, швейцарские горы и долины, озера и луга незабываемы. Но все-таки он завидовал своим родным: они этим летом путешествовали по Волге. О, там он знавал места, право же, не хуже швейцарских!
...Ну, если не Швейцария, то, может быть, больше всего запомнился Париж?
Да, Париж прекрасен. О нем он писал домой в первые же дни пребывания там: "Впечатление производит очень приятное - широкие, светлые улицы, очень часто бульвары, много зелени; публика держит себя совершенно непринужденно, так что даже несколько удивляешься сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости". Конечно, подумал он сейчас, Париж город очень неудобный для жизни при скромных средствах и очень утомительный, но прокатиться, навестить, пожить недолго - нет лучше и веселее города.
В Париже его чрезвычайно радовало и то, что там он легко понимал французский язык, чего не было с немецким языком в Берлине. Но зато в Берлине в отличной Королевской библиотеке он с таким наслаждением и так плодотворно порылся в книгах! А как здорово было по вечерам бродить по берлинским улицам, приглядываться к разноликому люду, прислушиваться, стараясь понять ее, к живой немецкой речи, заходить в кафе рабочих кварталов, посещать простонародные вечера увеселений.
Так, может быть, самое сильное впечатление - Берлин? Возможно. Но ведь и в Париже он тоже неплохо поработал в Национальной библиотеке, покопался в книжных развалах букинистов на набережных Сены, бродил по улицам, наблюдал толпу, посещал собрания и вечера рабочих... А кроме того, в Париже был незабываемый день, когда он посетил кладбище Пер-Лашез, стоял у Стены коммунаров. С 1880 года, вот уже пятнадцать лет, в последнее воскресенье мая трудящиеся Парижа устраивают траурное шествие к Стене коммунаров. В этом году оно было двадцать шестого числа. Он не принял в нем участия - ему хотелось побыть на этом кладбище, у этой стены одному, услышать в тишине голос умолкшей здесь четверть века назад жаркой крови, слить с великой скорбью парижан свое личное, свое семейное горе: ведь стояли те самые майские дни, когда дома - вот уже восемь лет! - всегда чтили память брата и - четвертый год - память сестры.
Он знал, что его письма, конечно, будут вскрываться жандармскими чиновниками, и потому был в них очень осторожен. В самый день годовщины смерти брата и сестры он не мог не написать матери, но и не мог ничего поведать о своих подлинных чувствах в этот день. Письмо было вроде бы незначащим: о том, как устроился в Женеве, что посетил крестницу Асю, что очень дорога здесь прислуга, и так далее. Но, ставя дату, он указал число не только по европейскому стилю, как на всех заграничных письмах: двадцатое, а - в скобках - еще и по привычному для матери русскому стилю: восьмое. Восьмое мая - день смерти и Александра и Ольги. Он был уверен, что мать догадается, почему тут две даты, и за второй из них услышит его голос: "Я помню этот день, мама, и мысленно я сегодня с тобой".
Мама, мама... Ей давно бы пора отдыхать да радоваться на выросших детей, ездить бы вот по таким санаториям, как тот, где лечился он, а вместо этого какая трудная старость! За пять лет потерять трех самых близких людей - мужа, двадцатилетнего сына, двадцатилетнюю дочь... Да и сейчас, в шестьдесят лет, одни заботы и беспокойства.
Он знал, что главная причина ее забот и ее беспокойств - он сам. Не потому, что вскоре после приезда в Петербург, два года тому назад, он вынужден был просить ее о денежной помощи. Не потому, что и во время этой поездки обращался раза два с такой же просьбой. Не потому. Мать помогала с радостью, хотя он, конечно, готов был на все, чтобы иметь возможность не обращаться к ней с такими просьбами. Мать беспокоили не деньги - она была в вечной тревоге за будущее своего и второго сына, за саму его жизнь.
В памяти всплыло лицо матери: живые глаза, совсем уже седые волосы, родинка над верхней губой. В этом лице удивительно сочетались доброта и строгость, нежность и сдержанность. Он видел его таким особенно часто в дни своей болезни, в марте, когда мать приехала в Петербург из Москвы, чтобы ухаживать за сыном. Тогда же она познакомилась...
В дверь вежливо постучали.
- Войдите!
На пороге появился кондуктор.
- Извините, сударь. Нельзя ли к вам на свободное место перейти господину из соседнего отделения?
Молодому человеку не хотелось соседства, ему так хорошо ехалось в одиночестве. Он медленно провел ладонью по высокому лбу, и в медлительности жеста угадывалась досада.
- Чем же этому господину не нравится его отделение?
- Там дите.
- Но до Вержболова остались сущие пустяки...
- Да, ехать теперь недалече, но он говорит, что больно уж устал от ребятенка, отдохнуть хотят...
- А других свободных мест в вагоне нет?
- Кабы были! - кондуктор развел руками. - Да вы не сомневайтесь, господин вполне приличный!
Все это настораживало, но молодой человек понимал, что его несогласие, в свою очередь, тоже может показаться подозрительным, а это не в его интересах. Он пожал плечами:
- Ну что же...
- Уж извините, сударь.
Кондуктор ушел. Молодой человек некоторое время напряженно ожидал нового соседа: перейти из одного отделения в другое - дело пустячное, но тот почему-то все не являлся. "Вероятно, передумал", - обрадовался молодой человек и через несколько минут незаметно для себя вновь погрузился в свои размышления.
...Он снова возвратился мыслью к матери, а от нее - к Наде. Мать познакомилась с ней в дни его болезни, когда обе они, то вместе, то поочередно, с тревогой и нежностью склонялись над его жарким изголовьем. Кажется, они понравились друг другу. Однажды, когда он начал выздоравливать, ему захотелось развлечь мать, и он рассказал ей, как Надя играла на сцене рабочего клуба. Ставили "Горе от ума". Наде поручили роль третьей княжны. Вся роль состояла из одной-единственной реплики: "Какой эшарп кузен мне подарил!" - но Надя усердно ходила на все репетиции, а в день премьеры перед выходом на сцену так разволновалась, что у нее сел голос и она жалким, чудовищным образом проскрипела: "Какой эшарп кузен мне подарил!" Он вспомнил, как смешно изобразил тогда испуганную, безголосую Надю, как смеялась мать, слушая рассказ и переводя веселый добрый взгляд с него на Надю, с Нади на него, как сама она потом, смеясь, повторяла: "Какой эшарп кузен мне подарил!"
Вслед за Надей в памяти проступил образ Лафарга. Сначала он удивился такому прихотливому и неожиданному ходу своих мыслей, но тотчас понял, в чем дело. Познакомиться с Полем Лафаргом, прославленным деятелем социалистического движения Франции, другом Маркса, повидать его жену Лауру, дочь Маркса, было одним из сильнейших его желаний при посещении Парижа. Лафарга тоже интересовала встреча с молодым русским социалистом, и он пригласил его к себе в Ле-Перре, близ Парижа.
В день условленной встречи - это было еще в июне - он купил в книжном магазине Латинского квартала "Историю Парижской коммуны" Проспера Лиссагарэ и так с книгой в руках и предстал перед Лафаргами. Поль, несмотря на свои пятьдесят три года, все еще юношески подвижный и изящный, все еще жадный до жизни и ее впечатлений, встретил гостя приветливо, любезно и тотчас же попытался увлечь его в водоворот политической беседы. Но это ему удалось лишь позже, вначале помешала Лаура. Принимая книгу, чтобы куда-нибудь положить ее, она медленно, словно вспоминая что-то очень далекое, проговорила:
- Лиссагарэ... Читаете?
- Только сегодня купил.
- Очень интересная штука! - сказал Лафарг. - Обязательно прочитайте. Маркс называл ее лучшей историей Коммуны. Прочитайте и книгу Лефрансе о Коммуне. Но с именем Лиссагарэ в нашем доме связаны и другие воспоминания, - он взглянул на жену и не заметил, чтобы она была недовольна или протестовала: этот русский сразу расположил обоих к доверию и откровенности. - Дело в том, что когда-то, теперь уж, наверное, лет тринадцать тому назад, Проспер Оливье Лиссагарэ, или Лиссо, как мы его звали, сватался к Элеоноре, к Тусси, младшей сестре Лауры. Они были даже помолвлены, но в конце концов Тусси так и не решилась на этот брак.