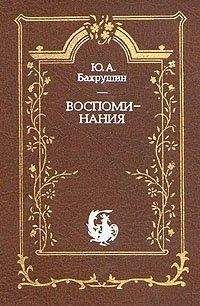Отдавали мы дань с отцом и дедом Носовым рыбной ловле. Помню как сейчас нашу первую рыбалку вскоре после переезда в имение. Решили пойти ниже плотины — по полученным сведениям, там клевало лучше. Отправились втроем: отец,?. Ф. Аксагарский и я. Старшие вскоре выбрали местечко и закинули удочки. Не клевало. Тогда я отправился дальше по берегу искать место. Шел, закидывал, ждал некоторое время и двигался дальше. Так я добрел до поворота реки, опять забросил снасть, и не прошло и двух-трех минут, как мой поплавок стремительно потащило вниз. Я подсек и почувствовал какую-то громадную рыбину. В те времена моя рыболовная квалификация была еще очень низкой, а потому я схватил удилище обеими руками и стал тащить что было силы. В результате мое удилище треснуло пополам и его верхний конец стал быстро клониться к воде. Здесь я уже заорал что было мочи своим компаньонам и все же ухитрился перехватить удилище. Подбежавшие вовремя отец и Аксагарский с подсачком помогли мне вытащить добычу. Это оказался крупный язь до четырех фунтов веса. Этот язь был первой рыбой, пойманной в Афинееве. Естественно, что после этого у нас создалось преувеличенное мнение о рыбных богатствах нашей речушки. Впрочем, крупную рыбу мы там лавливали, и не раз. Помню, что и отец как-то попал в аналогичное со мною положение. Он поехал ловить окуней в пруду, который был на той стороне реки, как раз против дома. Вместо окуней ему сразу на две удочки одновременно попались два линя, из которых один весил около шести фунтов. Подсачка с ним не было, и он истошным голосом вопил о помощи. К счастью, его услышал дед Носов, который быстро перебрался на тот берег и оказал необходимую помощь.
Осенью под руководством деда организовывались охоты с загоном. Для этого мобилизовались все деревенские мальчишки, с небывалым азартом принимавшиеся за дело. Один из них совершенно замечательно брехал по-собачьи — от гончей не отличишь. За этот талант он пользовался особой, благосклонностью деда и получал добавочное вознаграждение «за лай». Помню свою первую охоту на зайца. Меня предварительно проинструктировали, вручили берданку почтенного возраста и поставили на номер. Я терпеливо ждал, прислушиваясь к приближающемуся гону. Передо мной, в перелеске виднелась желто-бурая полянка, окаймленная низкорослыми деревьями, терявшими последние листья. Вдруг прямо передо мной из кустов выскочил уже вылинявший белый заяц и пустился по опушке. Он был от меня шагах в восьмидесяти, то есть явно вне выстрела, но я уверенно поднял ружье и, не целясь, выстрелил. Видимо, он был обречен судьбой, так как перевернулся через голову и пал мертвый. При ближайшем рассмотрении он был поражен единственной дробиной в глаз. Дед был в восторге от моей удачи и здесь же обещал подарить мне настоящее ружье. Должен признаться, что потом я часто и много ходил на охоту но зайцу и неоднократно стрелял, но больше не встречал обреченных судьбой косоглазых. Это был мой единственный заяц.
Помимо этого, осенью, конечно, все увлекались собиранием грибов, которых было множество и которые солились, сушились, мариновались и жарились до тех пор, пока не ударяли первые морозы. Пора было собираться в Москву. С начала зимнего периода увеличивалось количество дел моего отца, и хотя он и продолжал вырывать дня три в неделю, чтобы приехать в Верино, но это давалось с трудом. Все меры к тому, чтобы к нам был проведен телефон, были приняты, но это могло осуществиться только к будущему лету. Что касается меня, то, благодаря занятиям в училище, я мог приезжать в деревню только на воскресенье.
В этом году мы окончательно перебрались в Москву очень поздно — только в конце октября. Отец снова был занят с утра до вечера, и мы дома видели его только урывками, но наши субботы протекали обычным порядком. Они далеко не всегда были людными, и беседы на них порой не отличались значительностью, но все же неизменно вращались вокруг вопросов театра и искусства. Как я уже упоминал, в те годы я стал регулярно вносить в свой дневник «события дня», а так как я достиг уже восемнадцатилетнего возраста, мое присутствие на субботних сборищах стало постоянным. К сожалению, многие из моих записей пропали, но некоторые сохранились. Восстанавливаю по ним одну из наших рядовых суббот.
Собрались, как всегда, в десятом часу вечера. Вначале разговор шел об юбилее А. А. Яблочкиной. Все ее упрекали в том, что, играя Василису Милентьевну, она не дала ничего своего — все федотовское. Обсуждение «Василисы Милентьевны» послужило поводом для кое-каких воспоминаний, и беседа приняла другой оборот. А. И. Чарин вспоминал, что, когда он играл в местечке Юзовке, около Харькова, во время представления этой пьесы произошел забавный инцидент. Когда Колычев, произнося слова:
Коль говоришь, что любишь, так люби, А не вертись: забудь обычай женский Обманывать… — закалывал Василису, кто-то из райка, указывая на Грозного, неистово завопил: «Старика бей!»
В той же Юзовке шел «Трильби» с?. М. Петипа, который оговорился в одной сцене и, вместо того чтобы сказать: «Мой адрес: улица Тир-Лиард, № 12, не забудьте», сказал: «Мой адрес: улица Тир-Лиард, № 13, не забудьте». На это какой-то завсегдатай из райка глубокомысленно, на весь театр, произнес: «Эва! переехал!»
Разговоры о Юзовке, по ассоциации, заставили?. Ф. Аксагарского вспомнить другой случай. В 1903–1904 году в Харькове большой нелюбовью публики пользовался издатель крайне реакционной газеты «Южный край» Иозефович. Он имел обыкновение присутствовать на всех представлениях гастролирующего театра. Обычно после второго звонка, когда театр погружался в темноту и тишину, Иозефович подходил к рампе, становился спиной к сцене и начинал рассматривать зрителей. Как-то кто-то из зрителей верхних мест, увидев его в таком положении, довольно громко произнес: «Иозефович, сядь!» Этот одинокий возглас был тут же подхвачен окружающими, и через несколько секунд весь зрительный зал загремел призывом: «Иозефович, сядь!» Иозефович сел. Тогда тот же робкий голос едва слышно шепнул: «Иозефович, встань!» И снова через несколько секунд это новое повеление громко слышалось отовсюду, Иозефович вскочил и опрометью бросился из театра, в котором после этого долгое время не появлялся.
Отец вспомнил, как у Корша в бенефис Киселевского шли «Денежные тузы». На сцену пришел его свояк П. А. Протопопов и начал бороться с бенефициантом. Наконец Протопопов одолел Киселевского, повалил его на пол и сел на него верхом. В это время кто-то но ошибке дал занавес. Это развеселило весь зрительный зал.
Это напомнило Чарину аналогичный случай. Во время масленицы актеры у Корша обыкновенно приходят с утра в театр и уже не уходят до ночи. Вот во время одного утренника захотелось актерам поесть блинов. Послали уборщицу в ближайший трактир. Она раздобыла блинов и идет по сцене с судком, а занавес поднялся. Помощник режиссера показывает ей, чтобы она шла обратно, а та ничего не понимает и идет прямо в бутафорскую реку. Тогда режиссер, пренебрегая всем, кричит: «Куда? Куда? Вода! вода!» Уборщица обалдела, поставила судок на пол и задрала юбку.
Не меньше смеха вызвал и другой инцидент, происшедший в Ростове-на-Дону. Антрепризу держал Синельников. Шла «Смерть Иоанна Грозного» с Далмато-вым — Грозным и Самойловым-Мичуриным — Годуновым. В четвертом акте Самойлов-Мичурин но приказу Грозного идет взять синодик за кулисы, а помощник режиссера позабыл его приготовить. Время не терпит, и помреж сует нервничающему Годунову свою записную книжку с приказом читать под суфлера. Начинается чтение, Самойлов-Мичурин плохо слышит, что ему подают, и врет отчаянно. Наконец подходит фраза:
Помилуй, Господи, и упокой Крестьян опальных сел и деревень Боярина Морозова, числом До тысячи двухсот.
Самойлов-Мичурин половину недослышал, но первые две строчки произнес правильно, а затем:
Боярина Морозова со чадами До тысячи двухсот!
Далматов не выдержал, истово перекрестился и глубокомысленно произнес:
Огромное семейство.
Зрительный зал загрохотал от хохота.
Чарин припомнил, как оговорился Валентинов у Корша в пьесе «Ночное». Он совершенно не знал роли и вел ее все время под суфлера. Недослышек было тьма, но все они сходили не замеченными публикой, но наконец одна заставила весь театр разразиться смехом. Вместо того чтобы произнести: «Тебе-то, дедушка, хорошо, ты на пасеке сидишь», Валентинов выпалил: «Тебе-то, дедушка, хорошо, ты напакостил и сидишь…»
После этого разговор переменился. Возмущались, что не разрешают праздновать столетие со дня рождения Шевченко. Потом разговор как-то коснулся докторов. Чарин рассказал о случае, происшедшем с ним в Берлине. Приехав в Берлин, он захотел посоветоваться относительно своего здоровья с бывшим лейб-медиком Александра III профессором Лейденом. Знакомый Чарина, некто Редер, взялся свозить его к профессору, предупредив, что врачу за визит надо уплатить тридцать марок и чтобы Чарин положил в бумажник только эту сумму. После консультации Чарин, прощаясь, вручил Лейдену тридцать марок. Тот посмотрел и сказал: «Мало». Чарин заверил, что он, к сожалению, более не может и что даже и денег-то у него с собой нет больше. Тогда профессор протянул руку и преспокойно потребовал: «Позвольте ваш бумажник». Убедившись, что денег в нем нет, он вздохнул, поклонился и выпроводил Чарина из кабинета.