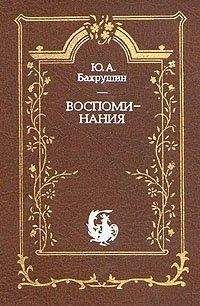— Смотреть-то нечего. Пустой дом. Одни ободранные стены. Брошенный дом. Мертвый.
Однако этот мертвый дом говорил громче, чем многие живые. Как я выпытал у управляющего, он был брошен владельцами в конце 40-х годов прошлого века, когда из него было вывезено почти все ценное, с их точки зрения. В дальнейшем полноправными хозяевами имения стали управляющие, так как продать усадьбу было сложно — она была майоратом. В доме никто не жил, но управители зорко следили за его сохранностью и частично приспосабливали его к своим надобностям. Так, например, почти весь нижний этаж обслуживал хозяйственные потребности. В окно бывшей гостиной вели сходни, и она была использована как курятник, в двух смежных комнатах хранилась рожь и проветривались овощи. Второй этаж и комнаты, выходившие в парк, внешне сохранились в неприкосновенности. Стены были оклеены старинными обоями ручной работы, напоминавшими росписи поповских чашек, стояла мебель крепостной, домашней работы, примитивно сработанная по лучшим образцам. Особенно запомнился небольшой, но тяжеленный диван из простой березы, расписанный под карельскую.
Сиденье покоилось на четырех страшенных львах, резанных из дерева. Видно было, что эти львы стоили много слез и жестокой порки. Потолки хранили следы росписи, в прихожей стояли огромные лари, в которых хранилась одежда гостей и на которых сидели и дремали их выездные лакеи, сохранились немногие люстры и торшеры. Но больше всего поразила меня угловая комната. Светлая, большая и просторная, она по двум своим стенам была обставлена застекленными шкафами красного дерева, сплошь набитыми книгами, стоявшими в идеальном порядке. Сквозь стекла виднелись добротные переплеты свиной кожи и пестрел щеголеватый, зеленый и красный марокен. Раскрыв одну из нижних, глухих дверок шкафа, н увидел, что он весь наполнен связками писем и рукописей. Это был семейный архив хозяев. С этого момента я «заболел» этой комнатой. Передо мной раскрывалась возможность проникнуть в жизнь давно ушедших людей, узнать их заботы, радости и печали, пожить их мыслями, волнениями и переживаниями. Но как это сделать? По всем признакам, управляющий ревниво следил за сохранностью остатков хозяйского добра, что я почувствовал в разговоре с ним после осмотра дома. О том, чтобы продать или купить что-либо, и речи быть не могло. Воспользовавшись тем, что жена управляющего хотела обязательно напоить меня чаем перед отъездом, я, в ожидании этого, попросил разрешения осмотреть парк за домом. Бродя по совершенно заросшим и потерявшим всякую форму дорожкам, вившимся между столетними липами, любуясь небольшим, сплошь покрытым всевозможными водяными травами прудом, с островком посередине, осматривая жалкие остатки фруктового сада, я все время тщетно искал возможностей поближе познакомиться и с библиотекой и с архивом. Попивши чая и прощаясь с управляющим, я, под влиянием какого-то наития, сказал:
— Как я вам завидую! Я так люблю читать старинные книги и всякую старинную писанину, а у вас ее так много! Как бы мне хотелось почитать все это. Наверное, там много интересного.
Пожимая мою руку и не меняя своего угрюмого выражения лица, управляющий задумался и вдруг отрезал:
— Что ж, это можно. Приезжайте и читайте. Я не против.
Уговорившись о том, когда состоится мое посещение, я в приподнятом настроении возвратился домой. Через несколько дней я снова был в Жодочах. Управляющий встретил меня для его характера довольно приветливо и повел меня в дом, захватив чернильницу с пером и какие-то конторские книги. Придя в библиотеку, он молча указал мне на шкафы — дескать, действуйте, а сам сел за стол, раскрыл свои фолианты и углубился в работу. Скажу откровенно, я никак не ожидал находиться все время под надзором, но делать было нечего, и я принялся за обследование. С первых же шагов стало понятно, что библиотека чрезвычайно ценная — редкие книги в прекрасной сохранности, хорошие гравюры, прекрасные переплеты. Кое-что я отмечал особо и ставил в отдельный ряд. Повозившись с книгами, я принялся за рукописный отдел, который также представлял своеобразный интерес. Позанимавшись часа три, я распрощался и поехал домой, уговорившись о следующем посещении. Домой я ехал в смутном состоянии духа. Я прекрасно понимал, что все это обречено на гибель, но как спасти хотя бы часть? С управляющим не договоришься на этот счет — это ясно, значит, единственный выход — кража хотя бы наиболее ценной части виденного, но как это сделать под бдительным оком усадебного Аргуса? Ответа не находилось.
В следующий раз, когда я должен был ехать в Жодо-чи, погода выдалась неважная — небо заволокло тучами и временами моросил дождь, но это меня не смутило. Надев кожаную куртку и болотные сапоги с большими отворотами, я пустился в путь. На месте все пошло как обычно. Но вот, во время разборки библиотеки, какая-то записочка случайно выпала из книги, полетела на пол и бесследно исчезла. Я долго и бесплодно ее искал, недоумевая, куда она могла деться, но найти ее так и не удалось. Лишь в конце осмотра я случайно взглянул на свои сапоги и обнаружил, что пропавшая записка завалилась за отворот моего болотного сапога. Выход был найден, и я смело вступил на путь воровства. Да! Я крал и не стыжусь этого, так как будущее меня оправдало. От всего того, что было в Жодочах, впоследствии не осталось ничего, за исключением того, что украл и спас я. Ныне все это находится в государственных хранилищах, в которые я это передал, не считая возможным владеть тем, что было приобретено таким путем.
В последующие разы я иногда брал с собой приятеля, который занимал управляющего разговором и тем самым отвлекал его внимание от того, что я делал. Впрочем, мой Аргус стал постепенно ко мне привыкать — он сделался разговорчивее и иногда ненадолго покидал меня. На следующий год он совсем ко мне привык и я стал допускаться в библиотеку в одиночестве. Это, конечно, облегчало мою задачу по выемке из архива наиболее интересного, но было малопродуктивно, так как над расшифровкой иного письма уходил целый день. В середине лета я снова начал разговор о том, чтобы брать книги и письма к себе на дом. Управляющий долго молчал — он, видимо, был тугодум, — но наконец огласил свое решение.
— Книги — не надо, здесь читайте, а вот письма и записки там разные — это, пожалуй, можно, их все одно мыши зимой жрут — я уж много выкинул.
С этого дня передо мной стала раскрываться история этой усадьбы и развертывалась незатейливая жизнь интеллигентной дворянской семьи среднего достатка.
В XVIII веке Жодочи принадлежали Н. В. Рогозину, но уже в конце столетия они перешли во владение Федора Михайловича Вельяминова-Зернова, у которого были сын Владимир и красавица дочь Анисья Федоровна, в начале XIX века вышедшая замуж за Степана
Ивановича Кологривова. От этого брака родились два сына: Николай и Иван. Семья, по-видимому, своего дома в Москве не имела и жила безвыездно либо в Жодочах, либо в Паюсове в Орловской губернии, сносясь со столицей письмами. Когда сыновья подросли, они поступили на службу. Старший — в канцелярию московского генерал-губернатора — всесильного графа Закревского — чиновником особых поручений, а младший пошел на военную службу.
Пожелтевшие от времени листки писем осторожного и предусмотрительного Николеньки, испещренные его ровным, аккуратным почерком, переносили меня в бальные залы Москвы 40-х годов или в Большой театр на премьеру балета или итальянской оперы, заставляли принимать участие во всевозможных интригах генерал-губернаторского окружения или узнавать всю подноготную скандальных столичных происшествий и великосветских сплетен. Николенька никогда не забывал подчеркнуть, что он сообщает это не для разглашения, а то «упаси Бог, граф узнает — тогда беда!». Письма Ванечки были всегда написаны наспех, неровным и небрежным почерком, с орфографическими ошибками. Здесь передо мной вставали величавые громады Кавказских гор, стычки с абреками, веселые товарищеские попойки с жженкой и удалыми песнями, выигрыши и проигрыши в карты, случайные встречи в Пятигорске и на Минеральных водах с знакомыми, с родными и с прелестными девушками. Бесшабашный и жизнерадостный, он был любимцем и баловнем матери и ничего от нее не скрывал. Ответы родителей пестрели благословениями и наставлениями и сообщениями о делах в Жодочах. А дела были неважные, доходы сокращались, и впереди зияла пропасть неизбежного разорения. Для поправки дел строились фантастические планы и предпринимались коммерческие авантюры. Был создан полотняный завод, но из него ничего не вышло. Взамен него стали курить вино, но и это, кроме убытков, ничего не принесло, наконец, стали организовывать фарфоровую фабрику, но на это не хватило средств.
Позднее 40-х годов писем не было — жизнь Жодо-чей замерла, чтобы более не возродиться. В 60-х годах имение какими-то путями перешло по наследству заведующему репертуаром московских театров Ник. Ив. Пельту. Он в имении не жил и им не интересовался. Его потомки владели Жодочами и тогда, когда я разбирал библиотеку и архив.