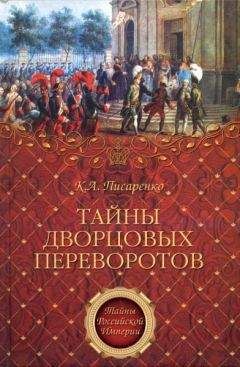Ознакомительная версия.
Другое дело, что если у общества было желание не дать что–то человеку, не пустить его куда–то или ограничить его в правах и возможностях, тема «незаконного происхождения» становилась отличным предлогом. Характерно, что в своей речи князь Дмитрий Михайлович вообще не упомянул сына Анны Петровны, малолетнего Петра (будущего императора Петра III). Похоже, и не упомянул потому, что против него не было даже такого хилого аргумента. Ну что поделать, если «Петер–Ульрих» был «продуктом» наизаконнейшего брака и притом внуком Петра I по императорской линии! Пришлось сделать вид, что его вообще нет на свете… И многие люди подыграли в этом Дмитрию Михайловичу, причем подыграли дважды на протяжении всего одного утра 19 января.
Итак, называя вещи своими именами, «верховники» затеяли обойти самых прямых и законных наследников, Елизавету и Петра–Ульриха, но решили как бы для благого дела…
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Наивные люди полагают порой, что это, мол, не сам Дмитрий Михайлович Голицын придумал ограничить власть императрицы. Мол, знал князь Дмитрий про шведский «положительный пример»: в 1719 году после смерти почти разорившего страну Карла XII шведская аристократия, Государственный совет, устав от беззаконий и бесчинств самовольных королей, пригласили на престол не прямого и законного наследника, герцога голштинского (Карла–Фридриха, отца Петра III), а сестру Карла XII, Ульрику–Элеонору. Пригласив эту не имевшую твёрдых прав женщину, Государственный совет заставил подписать документ об ограничении её власти, о контроле Государственного совета за всеми делами монарха.
Ситуация очень похожая, и вроде бы те же обстоятельства дела: приглашение непрямого наследника, претензии аристократии на всевластие, сопротивление широких слоев дворянства и, наконец, полный успех во введении конституции!
Но легко предположить, что Дмитрий Голицын знал и кое–что об обстоятельствах смерти Петра, и о том, из чьей траншеи меткий стрелок избавил Швецию от Карла. Тогда выстраивается еще более полная и тем самым более соблазнительная аналогия между Швецией и Российской империей: за тайным убийством монарха следует призвание непрямого, сомнительного наследника, позволяющего дать стране аристократическую, куцую, но конституцию…
Действительно, в «Кондициях» историки давно уже отметили готовые образцы и формулы, прямиком взятые из шведского опыта. Нет сомнения, что этот опыт был Дмитрию Михайловичу прекрасно известен… А если путь проторен, зачем же стараться самому? Можно и взять готовое, тем более — времени мало…
Иногда раздаются голоса, что, мол, не сам «всё это» придумал князь Дмитрий Голицын. Мол, соблазнили его европейцы, заставили своим лукавым умом пытаться уподобить Россию Швеции, инфицировали его сознание своими конституционными идеями… А не будь шведов, не будь их вредоносного влияния, и не стал бы лелеять князь Дмитрий своих вредных для России планов, не пытался бы внедрять в страну заведомо «не подходящий» для нее опыт ограничения власти. Может быть, и не стоило бы вступать в полемику с бредом, маскирующимся под патриотизм, да только очень уж часто и в слишком разных вариациях слышится подобное мнение. И потому отвечу в трех пунктах.
Во–первых, первая в мире буржуазная республика Соединенных провинций возникла в Голландии еще в конце XVI века, когда на Руси правили сын Ивана Грозного Федор Иванович и Борис Годунов. Парламент в Британии и Генеральные штаты во Франции существуют так вообще с XIII столетия, а Британия окончательно стала конституционной монархией в 1688 году, после «Славной революции», почти на глазах сподвижников Федора Алексеевича и самого Петра.
Словом, в Европе искони хватало и республиканского опыта, и опыта ограничения власти монархов; никто не мешал россиянам перенимать этот опыт и в XV, и в XVI веках, и если они этого не делали, причины были сугубо внутренние. Так же и в начале XVIII века — если именно сейчас вдруг оказался востребованным шведский опыт, то, вероятно, очень не случайно. Не потому, что злые иностранцы подсунули нечто хорошему русскому вельможе. А потому, что сам русский вельможа и многие люди его круга нуждались в идеях этого рода. Потребность в идее, стало быть, назрела к тому времени.
Во–вторых, вовсе не один Дмитрий Михайлович Голицын «вдруг» захотел ограничить монаршую власть. Мы уже видели, что высшие вельможи государства очень хорошо понимают затею «верховников» и откровенно сочувствуют ей. Вскоре нам предстоит увидеть, что и основная масса дворян хочет ограничения монархии и осуждает князя Голицына только за отсутствие смелости в его замыслах, аристократическую замкнутость затеянной им «конституции». Что дворяне не хотят всевластия Верховного тайного совета, но и неограниченной монархии не хотят.
Французский посол Кампредон уже в 1726 году, за четыре года до событий, доносил своему правительству, что большая часть вельмож в России хотят ограничить власть императрицы, не дожидаясь, пока подрастет и воцарится великий князь Петр Алексеевич. Мол, русские вельможи хотят устроить правление по образцу английского». Как видно, и про английский образец они знали, а отнюдь не только про шведский.
В–третьих, мне очень трудно представить себе человека, на которого сложнее оказывать влияние, чем князь Дмитрий Михайлович Голицын… В 1730 году он, родившийся в 1665 году, разменял седьмой десяток. Даже в наше время возраст вполне почтенный, а в XVIII веке человек в 65 лет считался уже стариком. В 1697 году, в возрасте более 30 лет, он ездил за границу, учился, знал несколько языков. В его библиотеке в Архангельском, расхищенной после его ссылки в 1737 году, находилось до 6 тысяч книг на разных языках — вся классика европейской политической мысли, начиная от Макиавелли, и по истории, политике, философии.
Родственник Василия Голицына, он никогда не пользовался особым доверием Петра, но всегда был на значительных должностях, требующих доверия, ума, квалификации: уж очень хорошо выполнял все задания и, как говорили в те времена, «отправлял все должности».
В долгую бытность губернатором в Киеве, городе, не очень покорном Москве, Голицын стал своего рода центром притяжения местного кружка переводчиков в тамошней академии. В числе прочих книг по его поручениям перевели голландца Гуго Гроция «О праве войны и мира» и сочинения Пуфендорфа — книги из политической школы моралистов, выводивших жизнь государства из обязанностей людей друг перед другом.
Трудно представить себе, чтобы кто–то оказывал на князя Дмитрия нежелательное влияние или он, как восторженный мальчик, купился на красивую конституционную игрушку.
Думаю, в наибольшей мере прав С.М. Соловьев, с чьей точки зрения сам Д.М. Голицын разочаровался в неограниченной монархии.
«Гордый своими личными достоинствами и еще более гордый своим происхождением, считая себя представителем самой знатной фамилии в государстве, Голицын, как мы видим, постоянно был оскорбляем в этих самых сильных своих чувствах. Его не отдаляли от правительства, но никогда не приближали к источнику власти. Никогда не имел он влияния на ход правительственной машины, а что было виною — фаворитизм! Его отбивали от первых мест люди худородные, но умевшие приближаться к источнику власти, угождать, служить лично, к чему Голицын не чувствовал никакой способности».
Так было, когда престол занимала худородная Екатерина, окружённая выскочками. Так было и при Петре II, — казалось бы, законнейшем императоре, но возле которого сгрудились самые незначительные по личным качествам из Долгоруких…
Конечно, Анна будет обязана Голицыну, как главному виновнику её избрания,
«но Голицын научен горьким опытом: он знает, что сначала ему будут благодарны, сначала поласкают человека, неспособного быть фаворитом, а потом какой–нибудь сын конюха, русского или курляндского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Вельможество самостоятельного значения не имеет; при самодержавном государе значение человека зависит от степени приближения к нему. Надобно покончить с этим, надобно дать вельможеству самостоятельное значение, при котором оно могло бы не обращать внимания на фаворитов»
[31. С. 200—201).
Написано блестяще, буквально нечего добавить! Разве что… Разве что вот — а почему нужно считать, что такие мысли могут быть только у «вельможества»? Примерно такие же мнения вкладывает в уста Чацкого и А.С. Грибоедов:
— Служить бы рад. Прислуживаться тошно.
Кстати, в разговоре с Чацким Фамусов опирается как раз на опыт «вельможества»:
Вот то–то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Мы, например, или покойник дядя
Максим Петрович: он не то на серебре —
На золоте едал, сто человек к услугам,
Весь в орденах, езжал–то вечно цугом.
А дядя! что твой князь? что граф?
Сурьозный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб
[35, С. 150—151].
У А.С. Грибоедова «новый человек» XIX века, противопоставленный отрицательному вельможе XVIII столетия, выглядит как раз «хорошим не титулованным дворянином», который уже не хочет быть таким же, как «отрицательный вельможа».
Ознакомительная версия.