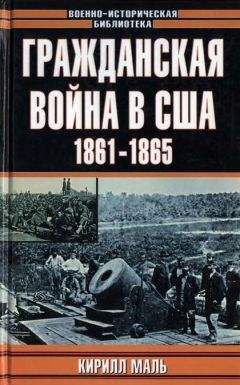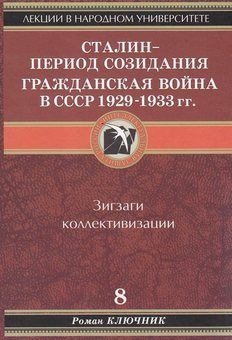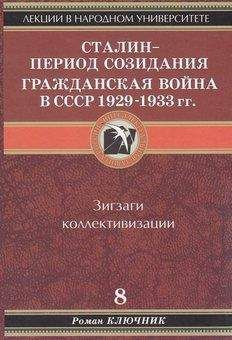превратности любви, брака, домашние заботы, семья и смерть. Ряд женщин-авторов выпустили множество сентиментальных бестселлеров (Натаниэл Готорн, возможно, завидуя гонорарам, называл их «проклятая банда бумагомарательниц»).
Таким образом, если представление о женщинах как домохозяйках закрыло им парадную дверь в «большой» мир, то оно же помогло им попасть в расширяющиеся сферы религиозной жизни, реформ, образования и писательства с черного хода. Это с неизбежностью привело к тому, что женщины, умевшие писать и излагать свои мысли, преподавать и издавать журналы, начали задаваться вопросом, почему им не платят столько же, сколько их коллегам-мужчинам, и почему они не могут так же проповедовать, заниматься юриспруденцией или медициной, владеть собственностью независимо от своих мужей и, наконец, голосовать. Таким образом, «кухонный феминизм», как его окрестили некоторые историки, извилистым путем привел к феминизму куда более радикальному, требовавшему равноправия во всех сферах. В 1848 году конференция, состоявшаяся в местечке Сенека-Фолс в северной части штата Нью-Йорк, послужила отправной точкой современного движения за права женщин. Принятая там Декларация общественного мнения, сходная по стилю с Декларацией независимости, объявляла, «что все мужчины и женщины созданы равными» и достойны «неотчуждаемых прав», включая избирательное. Конференция собралась в церкви; одна из двух главных ее организаторш — Элизабет Кэди Стэнтон — получила образование в первой женской семинарии в Трое (штат Нью-Йорк), другая — Лукреция Мотт — начала свою трудовую деятельность в качестве школьной учительницы; обе являлись также активистками аболиционистского движения. Их деятельность позволила «кухонному» феминизму, пробиравшемуся черным ходом, проделать крохотную трещину уже и в парадной двери [51].
IV
Эволюция семьи, в которой на первый план вышел ребенок и любовь к нему, помогли аболиционистам сосредоточиться на самом очевидном грехе американского рабства: горькая ирония состояла в том, что рабовладение одновременно поощряло браки рабов и угрожало разрушением их семьям.
Брак между рабами не имел в Соединенных Штатах законной силы. В 1850 году более половины невольников жили на фермах или плантациях с числом рабов меньше двадцати. Естественно, для них тяжело было найти брачных партнеров в той же местности, тем не менее рабы женились и заводили большие семьи. Большинство рабовладельцев поощряли этот процесс, отчасти потому, что запрет ввоза рабов из Африки в 1807 году сделал их зависимыми от естественного прироста, необходимого для удовлетворения потребности в рабочей силе на полях расширяющейся хлопковой империи. Рабовладельческие экономики большинства других стран Западного полушария, в отличие от Соединенных Штатов, достигли кульминации своего развития во времена процветания импорта рабов. Для постоянного пополнения рабочей силы они ввозили в два раза больше мужчин, чем женщин, и не одобряли браки между рабами. Как следствие, если в Соединенных Штатах численность рабов естественным путем увеличивалась вдвое каждые 26 лет, то численность рабов в других странах Нового Света естественным образом падала [52].
Однако североамериканское рабовладение подрывало тот самый институт семьи, который само же и поощряло. Ответственные хозяева прилагали все усилия для того, чтобы не допустить распада семей рабов путем их продажи или вывоза. Однако не все рабовладельцы сознавали свою ответственность, кроме того, часто они в любом случае не могли тянуть время и избегать продаж, потому что нужно было удовлетворить иски кредиторов за счет распродажи имущества. Постоянное расширение плантаций на новых землях вело к распаду семей, так как рабы, переселяясь на запад, оставляли семьи на старом месте. Недавние исследования браков среди рабов показали, что примерно четверть семей была разбита владельцами или их наследниками, которые продавали или переселяли мужа или жену отдельно друг от друга [53]. Продажа малолетних детей отдельно от родителей если и не стала тенденцией, то случалась с пугающей частотой.
Такое насильственное разделение семей было самой большой брешью в броне защитников рабства, и сквозь эту брешь аболиционисты начали наносить свои удары. Одно из наиболее веских моральных обвинений институту рабства было предъявлено трудом Теодора Уэлда «Американское рабство без прикрас», впервые опубликованным в 1839 году и выдержавшим несколько переизданий. Составленная преимущественно из отрывков рекламных объявлений и статей в южной прессе, книга обличала рабство устами самих рабовладельцев. Среди сотен похожих заметок в книге выделяются объявления о вознаграждении за поимку беглых рабов, содержащих такие пассажи: «Скорее всего, он подастся в Саванну, так как, по его словам, его дети живут в тех краях», или рекламные объявления, подобные взятому из нью-орлеанской газеты: «ПРОДАЖА НЕГРОВ. Негритянка 24 лет от роду, с двумя детьми восьми и трех лет. Указанные негры продаются оптом или в розницу в зависимости от желания покупателя» [54].
Гарриет Бичер-Стоу использовала книгу Уэлда как источник для некоторых сцен «Хижины дяди Тома» (о которой речь пойдет ниже). В написанной в сентиментальном стиле, ставшем популярным благодаря хорошо продаваемым женским романам, «Хижине дяди Тома» основной упор делался именно на разделении семей, с наибольшей вероятностью способном растрогать сердца читателей из среднего класса, которые холили и лелеяли своих детей и супругов. Сцены, когда Элиза бежит через скованную льдом Огайо, чтобы спасти своего сына от лап работорговца, и когда Том оплакивает своих детей, оставшихся в Кентукки, тогда как его самого продали на Юг, стоят в ряду незабываемых сцен американской литературы.
Хотя многие читатели на Севере и прослезились, узнав о горькой судьбе Тома, политические и экономические аспекты рабства вызвали больше разногласий, чем моральные и общечеловеческие. Рабство казалось все более странным институтом в демократической республике, переживавшей стремительный переход к промышленному капитализму, основанному на свободном труде. По мнению растущего числа янки, рабство подрывало ценность труда, замедляло экономическое развитие, препятствовало образованию и порождало господствующий класс рабовладельцев, претендующий на управление страной в интересах этого отсталого строя. Рабство подрывает «разум, законность и энергию», — утверждал в 1840-х годах лидер вигов Нью-Йорка Уильям Генри Сьюард. Рабство оставило на Юге «истощенную землю, старые, приходящие в упадок города, ужасные, заброшенные дороги… полное отсутствие предприятий и новшеств». Это явление «несовместимо с… безопасностью, благосостоянием и величием нации». Рабство и свободный труд, как сказал Сьюард в своей самой знаменитой речи, являются «системами-антагонистами», между которыми зреет «неотвратимый конфликт», который должен привести к упразднению рабства [55].
Однако было ли рабство отсталым и неэффективным институтом (как заявлял Сьюард) или нет, никто не мог оспорить его необычайную производительность. Урожаи хлопка-сырца с начала XIX века удваивались каждое десятилетие — рекорд среди всех видов сельскохозяйственной продукции. Хлопок с американского Юга, выращиваемый преимущественно невольниками, составлял три четверти всех мировых поставок. Товары с Юга обеспечивали три пятых американского экспорта, принося в страну деньги, игравшие важную роль в экономическом росте. Безусловно, рабство сделало Старый Юг «отличающимся» от Севера, однако вопрос