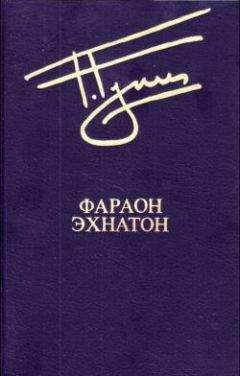XXX. УЗНАВ об этом, Марций вознегодовал еще более. Он снял осаду небольшого города, в раздражении двинулся к столице и расположился лагерем в сорока стадиях от города, у Клелиевых рвов. Его появление принесло с собой страх и страшное смятение, но разом прекратило взаимную вражду — никто из высших магистратов или сенаторов не смел больше противоречить предложению народа возвратить Марция из изгнания. Видя, напротив, что женщины бегают по городу; что старики, со слезами, идут в храмы, с мольбой о помощи; что все пали духом; что никто не может дать спасительного совета, — все сознались, что предложение народа примириться с Марцием было благоразумно и что, напротив, сенат сделал грубую ошибку, вспомнив старое зло тогда, когда его следовало забыть. Решено было отправить к Марцию послов, предложить ему вернуться в отечество и просить кончить войну с римлянами. Послы сената были близкими родственниками Марция. Они ожидали радушного приема, в особенности при первой встрече, со стороны своего друга и родственника. Они ошиблись. Их привели через неприятельский лагерь к Марцию, который сидел с гордым видом и не имевшей себе примера надменностью. Его окружали самые знатные вольски. Он спросил послов, что им нужно. Они говорили вежливо и ласково, как и следовало в их положении. Когда они кончили, он от себя лично напомнил в ответ с горечью и раздражением о нанесенных ему оскорблениях, от имени же вольсков требовал как полководец, чтобы римляне возвратили вольскам завоеванные ими города и земли и дали им гражданские права наравне с латинцами, — война, по его мнению, могла кончиться, только если мир будет заключен на равных, справедливых условиях для каждой из сторон. Для ответа он назначил им тридцатидневный срок. После ухода послов он немедленно очистил римские владения.
XXXI. ЭТО было главною причиной обвинения его некоторыми из вольсков, давно тяготившимися его влиянием и завидовавшими ему. Между ними был и Тулл, лично ничем не оскорбленный Марцием, но поддававшийся влиянию человеческих страстей. Он сердился на него за то, что благодаря Марцию его слава вполне затмилась, и вольски стали относиться к нему с презрением. Маракй был для них все; что же касается до других полководцев, они должны были довольствоваться уделяемою им частью власти и начальства. Это было первою причиной тайно распускаемых про него обвинений. Собираясь в кружки, вольски негодовали, считая его отступление изменой: он упустил не укрепления или оружие, но удобное время, от которого зависит, как и во всем остальном, или успех боя, или неудача; недаром он дал римлянам тридцать дней сроку: в меньшее время в ходе войны не могут произойти важные перемены. Марций сумел воспользоваться этим временем. Он вступил во владения союзников неприятеля, грабил и опустошал их; в его руки перешли между прочим семь больших и населенных городов. Римляне не решились подать им помощь — их сердца охватило чувство страха; им так же хотелось идти на войну, как закосневшему в бездействии и хилому человеку.
Когда срок прошел, Марций снова вернулся со всеми войсками. Римляне отправили к Марцию новое посольство с мольбою о пощаде и просьбой вывести войска вольсков из римских владений и потом уже начать делать и говорить то, что он считает выгодным для обеих сторон. Они говорили, что под угрозой римляне не уступят ничего; но если он желает извлечь для вольсков какую-либо выгоду, римляне согласятся на все, как только неприятель разоружится. Марций отвечал, что, как полководец вольсков, ан не может ничего сказать им, но, пока он еще римский гражданин, горячо советует не оказывать такого упорства в удовлетворении справедливых требований и явиться к нему через три дня с положительным ответом, иначе пусть они знают, что их не пропустят в лагерь, если они вторично явятся с пустыми разговорами.
XXXII. ПОСЛЫ вернулись и сделали доклад в сенате, который как бы бросил свой «священный» якорь в знак того, что государственному кораблю пришлось выдерживать грозную бурю. Все жрецы богов, все совершавшие таинства или надзиравшие за их исполнением, все знавшие старинные, употреблявшиеся предками правила гадания по полету птиц, должны были идти к Марцию, каждый в жреческой одежде, требуемой законом, и просить его прекратить войну и вступить в переговоры с согражданами касательно мира с вольсками. Правда, Марций пропустил жрецов в лагерь, однако не сделал им никаких уступок ни на словах, ни на деле, — он предлагал им или принять его прежние условия, или продолжать войну.
С этим ответом жрецы вернулись обратно. Тогда решено было запереться в городе, занимая укрепления, чтобы отражать нападения неприятеля. Свои надежды римляне возлагали лишь на время и на неожиданную перемену счастия: лично они не знали для своего спасения никаких средств. В городе царствовали смятение и страх; на каждом шагу видны были в нем дурные предзнаменования, пока не случилось нечто вроде того, о чем не раз говорит Гомер, но что у многих не находит себе веры. Относительно серьезных и невероятных поступков он выражается в своих поэмах, про кого-либо, что ему
Дочь светлоокая Зевса, Афина, вселила желанье,
или:
Боги мой гнев укротили, представивши сердцу, какая
Будет в народе молва…
наконец:
Было ли в нем подозренье, иль демон его надоумил.
Многие не обращают внимания на такого рода выражения — по их мнению, поэт желал невозможными вещами и невероятными вымыслами отрицать разумное проявление свободной воли в человеке. Но Гомер хотел сказать не это: все вероятное, обыкновенное, не идущее вразрез с требованиями рассудка, он считает действием нашей свободной воли, что видно из многих мест:
Тут подошел я к нему с дерзновенным намерением сердца,
затем:
Рек он, — и горько Пелиду то стало: могучее сердце
В персях героя власатых меж двух волновалося мыслей…
далее:
…но к ищущей был непреклонен
Чувств благородных исполненный
Беллерофонт непорочный.
Напротив, там, где речь идет о невероятном и опасном деле, где требуется вдохновение или воодушевление, он представляет божество не уничтожающим, но возбуждающим в нас проявление свободной воли, не внушающим нам желания совершить какойлибо поступок, а только рисующим в нашем воображении картины, заставляющие нас решиться на него. Ими оно не заставляет нас делать чего-либо по принуждению, оно дает лишь толчок свободной воле, вливая при этом в нас мужество и надежду. Действительно, если у богов отнять долю всякого влияния, всякого участия в наших делах, в чем же другом выражалась бы их помощь и содействие людям? — Они не переменяют строения нашего тела, не дают известного направления нашим рукам или ногам, как то следовало бы, — они только возбуждают действенное начало нашей души, выражающееся в свободной воле, известного рода ощущениями, представлениями или мыслями, или же, с другой стороны, удерживают ее, мешают ей.
XXXIII. В РИМЕ в то время все храмы были полны молящимися женщинами. Большинство их, принадлежавших к высшей аристократии, молились у алтаря Юпитера Капитолийского. В числе их была и Валерия, сестра знаменитого Попликолы, оказавшего Риму много важных услуг во время войны и во время мира. Из жизнеописания Попликолы видно, что он умер раньше. Валерия пользовалась в столице известностью и уважением — своим поведением она поддерживала славу своего рода. Внезапно ею овладело то настроение, о котором я говорил раньше. В ее душу запала счастливая мысль, внушенная ей свыше. Она встала сама, заставила встать и всех остальных женщин и отправилась с ними в дом матери Марция, Волумнии. Когда она вошла, она увидела, что его мать сидит с невесткой и держит на руках детей Марция. Валерия велела женщинам стать вкруг нее и сказала: «Мы пришли к вам, Волумния и Вергилия, как женщины к женщинам, не по решению сената, не по приказанию магистратов. Вероятно, сам бог услышал наши молитвы и внушил нам мысль отправиться сюда к вам и просить у вас исполнить то, что может спасти нас самих и остальных граждан, вам же, в случае вашего согласия, даст славу громче той, которую приобрели себе дочери сабинцев, уговорив своих отцов и мужей кончить войну и заключить между собою мир и дружбу. Пойдемте вместе с просительной ветвью к Мардию и скажемте в защиту отечества, как справедливый, беспристрастный свидетель, что он сделал ему много зла, но оно не выместило на вас своего гнева, не сделало и не желало сделать вам ничего дурного, нет, оно возвращает вас ему, если даже ему самому нельзя ждать от него пощады ни в чем». Когда Валерия кончила, она громко зарыдала вместе с другими женщинами. «И мы, мои милые, одинаково делим общую скорбь, отвечала Волумния, — во, кроме того, у нас есть личное горе: славы и чести Марция не существует больше, когда мы видим, что, надеясь найти в оружии врагов спасение, он нашел себе скорей плен. Но самое страшное из наших несчастий состоит в том, что родина наша, в самом полном бессилии, возлагает свои надежды на спасение на нас. Не знаю, обратит ли он внимание на наши слова, если уж не сделал ничего ради отечества, которое в его глазах стояло всегда выше матери, жены и детей. Мы готовы помочь вам, берите нас и ведите к нему. Если мы не можем сделать ничего другого, мы станем молить его о пощаде отечества до последнего издыхания».