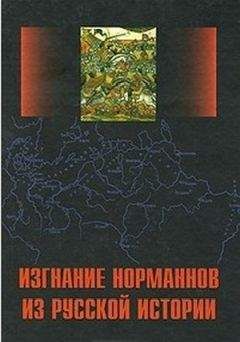Видя в Венелине основателя славянской школы, историк заключил, что он «человек начитанный, высокодаровитый, но, к сожалению, лишенный правильной ученой подготовки и увлекавшийся необузданною фантазиею, более приличною поэту». Нередко фантазией был увлечен и Морошкин, но при этом высказывавший «блестящие воззрения и догадки, под влиянием чисто русского, хотя и инстинктивного понимания». Бестужев-Рюмин, распределив точки зрения о происхождении варягов по трем группам - скандинавы, южнобалтийские славяне, «сбродная» дружина, перечислил главные доказательства норманской школы: «рос»-«свеоны» Вертинских анналов, скандинавские имена многих русских князей и дружинников, «русские»-«скандинавские» названия днепровских порогов, сближение варягов с византийскими «варангами» и «верингами» Снорри Стурлусона. И высказал свое твердое убеждение в том, что главная заслуга славянской школы состоит в отделении руси от варягов и в мнении, считавшем Русь исконным названием Руси южной[237].
В начале 1870-х гг. П. П. Пекарский в привычном для нашей историографии духе четко проводил мысль, что Ломоносов (а вместе с ним русская часть Академии наук в лице Н. И. Попова и С. П. Крашенинникова) выступил против диссертации Миллера «не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности» (в «отзыве о речи своего личного врага преимущественно руководствовался патриотическим воззрением» и защищал мнение Синопсиса об этносе варягов). Тогда как эта диссертация, уверял ученый, «при всех ее недостатках, замечательна в нашей исторической литературе как одна из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и историческую критику, без которой история немыслима как наука». Хотя, как при этом им было сказано, неблагоприятный отзыв на труд Миллера дало большинство академиков. Шлецер, на его взгляд, был самого неуживчивого и сварливого характера и чрезвычайно высокого мнения о самом себе и своих знаниях, «с презрением» относился к грамматическим и историческим трудам Ломоносова.
Характеризуя статью Байера «О варягах», также традиционно констатировал, что в ней «впервые высказаны положения, составляющие до ныне краеугольный камень так называемой норманской системы о происхождении Руси». Но ее, написанную на латыни, наверное «никто не читал в России за исключением одного Татищева». Вместе с тем Пекарский отмечал, что, во- первых, он, зная многие языки, даже не принялся за изучение русского языка, т. к. не думал, что это ему когда-нибудь может пригодиться, во-вторых, что Байер и Шлецер защитили диссертации по богословию, соответственно по крестным словам Иисуса Христа и «О жизни Бога», в-третьих, что Миллер прибыл в Россию, не имея законченного университетского образования и совершенно не помышляя о науке вообще и истории, в частности, т. к. пределом его мечтаний, как он сам же признавал, была только служебная карьера - сделаться зятем Шумахера и его должности, в-четвертых, что Байер, Миллер, Шлецер до своего приезда в Петербург никогда не занимались русской историей и ничего не знали из нее[238] (т. е., как вытекает из сказанного, они стали приобщаться к ней только в России и только в той мере, в какой овладевали, понятно, русским языком).
И. В. Лашнюков в «Очерке русской историографии», вышедшем в 1872 г., утвердительно говорил о том, что «наука русская история возникает в XVIII веке в трудах академиков-немцев», что исследования русских историков той же поры «не более, как свод перифразис неразработанного материала с очень слабым осмыслением отдельных фактов и явлений русской истории», и что они «не представляют науки в настоящем смысле этого слова». Но при этом им было подчеркнуто, что в трудах Татищева и Ломоносова «более замечается научных тенденций и яснее высказался современный взгляд на русскую историю», что первый не позволял себе перерабатывать материал по своему усмотрению и перифразировать летописные известия, как это делалось в XVIII и отчасти в XIX столетии, что в его «Истории Российской» видна попытка подвергнуть критике источники и отдельные сообщения, и что она имеет важное значение в наше время, т. к. ею пополняются многие пробелы и темные места в летописях.
Но если, подчеркивал ученый, для Татищева первое дело историографа - это передать верно сказания, то для Ломоносова - поддержать упадавшие патриотические чувства (он смотрел на историю с чисто литературной точки зрения, что образцом для него служили римские историки, прославляющие подвиги предков в красноречивом рассказе для назидания потомства). Вместе с тем Лашнюков отметил основательное знакомство Ломоносова с источниками и подытоживал, что, во-первых, некоторые его заключения «не потеряли научного значения», во-вторых, его «Древняя Российская история» «имеет важное значение, как попытка написать русскую систематическую историю в патриотическом духе, и как протест русского ученого против нелепого мнения, что только немцы могут разрабатывать русскую историю»[239].
Как резюмировал в 1872 г. М.П. Погодин, из всех опровержений норманизма «самое научное, всестороннее и благовидное, приведенное к одному знаменателю, было Эверсово (а собственное мнение - самое нелепое), самое основательное, полное и убедительное принадлежало г. Гедеонову. Принимая к сведению его основания, должно было допустить, что призванное к нам норманское племя могло быть смешанным или сродственным с норманнами славянскими». А в 1874 г. - за год до кончины - он окончательно укрепился в выводе, высказанном, надлежит подчеркнуть, более ста лет тому назад Ломоносовым, но только придав ему норманскую суть: «Я думаю только, что норманскую варягов-русь вероятнее искать в устьях и низовьях Немана, чем в других местах Балтийского поморья».
В тот же год один из самых убежденных норманистов Н.И. Ламбин признал, что Гедеонов, «можно сказать, разгромил эту победоносную доселе теорию... по крайней мере, расшатал ее так, что в прежнем виде она уже не может быть восстановлена». Солидаризируясь с его приговором норманской теории, он уже сам говорит о ее «несостоятельности» и констатирует, что она доходит «до выводов и заключений, явно невозможных, - до крайностей, резко расходящихся с историческою действительностью. И вот почему ею нельзя довольствоваться! Вот почему она вызывала и вызывает протест!»[240].
В 1875 г. П. П. Вяземский выразил «твердое и научное убеждение, что наши русские историки и летописцы до Шлецера стояли на более плодотворной почве для понимания древнейших судеб нашего племени и что вся мудрость Шлецера состояла в придумывании тормоза, искусно скованного для удовлетворения разных целей, уклоняющих от правильного пути; озирая пройденный со времен Шлецера путь археологических исследований в России, должно сознаться, что мы движемся в поте лица в манеже, не делая при этом ни шага вперед». И один из таких тормозов, вредящих научному изучению русских древностей, он видел в норманском вопросе. Сказав, что нельзя сомневаться в связи, существовавшей между скандинавами и славянами, Вяземский заключил, что «выход гребцов Руотси из Скандинавии не помогает ходу науки вперед» А в отношении Куника ученый указал на его стремление защищать норманизм «до последней крайности», а по поводу кредо Погодина, утверждавшего, что для него борьба с антинорманизмом есть «борьба не на живот, а на смерть», заметил, что такая постановка вопроса «в деле науки непонятна»[241].
В 1875 и 1877-1878 гг. Куник вновь (а на данный факт он впервые указал в 1844 г.) говорил о шведе П. Петрее как о «первом норманисте», «довольно неудачно», по его мнению, заявившем о себе в этом качестве в 1615 году. Причем, как убеждал историк, если не существует никакой антинорманистской школы, то «норманисты, напротив, образуют старую школу, возникшую в 17 столетии». Отрицая за Байером лавры «отца-основателя» норманскои теории, Куник оценил его вклад в ее копилку довольно скромно (он лишь ввел в научный оборот Вертинские анналы, неизвестные шведским историкам XVII в ), а диссертацию Миллера, превозносимую в науке, назвал «препустой» Осознавая, что факт присутствия руси на берегах Черного моря в дорюриково время полностью сокрушает норманскую теорию, свидетельства о ней он охарактеризовал «несостоятельными полностью», в связи с чем отверг позицию С.М.Соловьева, отделявшего русь от варягов и видевшего в ней оседлый народ, до Рюрика живший на юге нынешней России.
В те же годы Куник назвал сочинение Гедеонова «в высшей степени замечательным» и резюмировал, что против некоторых его доводов «ничего нельзя возразить». Критикуя антинорманистов, ученый отметил, что некоторые из них «и в том числе главным образом г. Гедеонов, беспощадно раскрыли слабые стороны норманской школы, которые вызывали противоречия. Само дело от этого только выиграло» (причем увидев его «самое сильное возражение» норманистской интерпретации Вертинских анналов). Находясь под несомненным воздействием вывода своего научного противника, что ПВЛ «всегда останется... живым протестом народного русского духа против систематического онемечения Руси», Куник откровенно сказал: «Одними ссылками на почтенного Нестора теперь ничего не поделаешь», - и предложил летопись «совершенно устранить и воспроизвести историю русского государства в течение первого столетия его существования исключительно на основании одних иностранных источников» (скатываясь, тем самым, на позиции первой половины XVIII в., преодоленные наукой благодаря Ломоносову). То, что иностранные источники представляют собою самую зыбкую основу для построений норманизма, продемонстрировал сам исследователь, тогда же окончательно отдав предпочтение в разрешении варяго-русского вопроса лингвистике, с которой так бесцеремонно обходились норманисты.