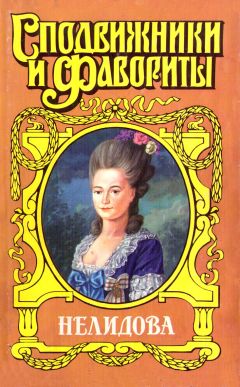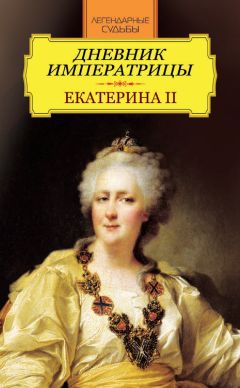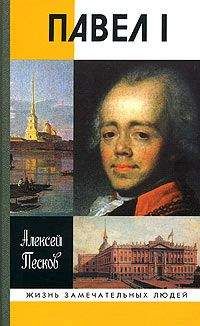— Да и зачем бы ему. Кто вы тогда были, Дмитрий Григорьевич! Годков-то вам всего семнадцать набежало.
— Немало.
— Немало, да и немного. А у господина Антропова к тому времени и слава была, и по службе преуспеяние. Откуда было ему знать, что вы таким знатным портретистом станете? А коли так, то и секретов таить ни к чему — одна морока. С батюшкой вашим он в большой приязни был, так и сынка привечал. Вот кабы не Москва…
— И ты с Москвой.
— И я? А кто ж ее, белокаменную, еще поминал?
— Григорий Николаевич Теплов интересовался, не скучаю ли по ней.
— А вы что, батюшка, сказали?
— Да ничего.
— Что так?
— Сам не знаю. Вспоминать вспоминаю, а так…
…История возвращается сюда по вечерам. Когда гаснут огни в коробках многоэтажек и прерывается поток машин, плотно заполняющих горловину когда-то просторной улицы. В свете фонарей зябко вздрагивают одинокие листья сохнущих лип — кто сегодня вспомнит, как сто лет назад их привезли из Голландии, самые пышные, самые душистые? На скупых лоскутах нетемнеющего городского неба вырисовываются силуэты церквей. Робко выступают к мостовой редкие особнячки за обрывками оград. Чтобы рассмотреть историю, здесь ее надо сначала узнать. Подробно и горько.
Приговор Замоскворечью был вынесен шестьдесят лет назад. Впрочем, не ему одному — всей Москве. Названная скопищем нищеты и бескультурья, она не могла рассчитывать на понимание и пощаду. Из трех великих магистралей, которыми предстояло рассечь столицу грядущего коммунизма, все три проходили через Замоскворечье — по Кузнецкой, Большой Ордынке, Полянке и Якиманке. До наших дней осуществилась полностью одна, стершая с лица земли Якиманку ради державной мощи „Президент-отеля“, еще недавно гостиницы „Октябрьская“.
Какое значение имеет, торговало ли Замоскворечье и как торговало, и уж тем более как жило. Едва ли не первыми в затишье просторных дворов, разлива сирени и жасмина, мир мощеных широкими желтоватыми плитами тротуаров, чугунных тумб — для дворников и привязи лошадей, деревянных калиток с чугунными кольцами, упрямых пучков одуванчика и сурепки у стен, тягучего колокольного перезвона и звонкого собачьего лая вступили советские писатели. Громада комфортного жилья надвинулась на Третьяковку и кружевную чугунную ограду особняка, привольно раскинувшегося за плотным рядом вековых лип. Одна из школ Ленинского района, музыкальная школа, наконец, библиотека Академии педагогических наук — любое название занимало место в справочниках, кроме главного, единственно нужного истории — дома Демидовых. Тех самых уральских богачей, которые сумели нажитые капиталы совмещать с занятиями наукой и с постоянной щедрейшей помощью этой науке. И еще. Демидовы — это Левицкий.
…Дворцовый интерьер непонятного помещения — то ли открытая колоннада, то ли зал. За выступом огромных, перехваченных вверху занавесом колонн перспектива московского Воспитательного дома. На переднем плане — простой стул, стол с книгами и лейкой, опершись на которую стоит в небрежной позе стареющий мужчина. Помятое лицо с запавшими от выпавших зубов щеками, покрасневшими, чуть припухшими веками и насмешливо-проницательным взглядом маленьких темных глаз. О портрете Демидова кисти Левицкого принято говорить, что его нарочитая простота, „домашность“ — свидетельство приближающегося сентиментализма, с обязательным стремлением к естественности (колпак и халат), природе (лейка и цветы), некие осуществившиеся образы Жан-Жака Руссо. Но подобное решение осталось единственным в творчестве Левицкого, как единственным в своем роде был самый человек, которого Левицкий писал. Художник всегда связан с живой моделью и все, чем наделяет ее в портрете, видит и находит в ней самой.
„Русский чудак XVIII столетия“ — такое название получит своеобразная монография, посвященная Прокофию Акинфиевичу Демидову одним из историков прошлого века. В XIX веке Прокофий Демидов становится неким символом своего времени со всеми его необъяснимыми чудачествами, бессмысленными фантазиями, желанием любой ценой отличаться от других, привлекать к себе всеобщее внимание. Он москвич, один из тех, о ком писал в 1771 году Екатерине II Григорий Орлов: „Москва и так была сброд самовольных людей, но по крайней мере род некоторого порядка сохраняла, а теперь все вышло из своего положения. Трудно завести в ней дисциплину полицейскую, так и пресечь развраты московских обывателей“. В том же году художник получает заказ на демидовский портрет.
На демидовский выезд сбегались смотреть толпы. Ярко-оранжевая колымага, запряженная цугом: две маленькие лошади в корню, пара огромных посередине, пара крошечных впереди, и при них два форейтора — гигант и карлик. К тому же Демидов заводит невиданную моду. Вся прислуга, лошади и даже собаки носят у него очки, а мужская прислуга должна ходить одна нога в онуче и лапте, другая — в чулке и башмаке. В семье несколько домов. Из них тот, что на Басманной — единственный в своем роде в Москве, от подвалов до крыши обитый снаружи железом. В стенах его комнат скрывались маленькие органчики, повсюду были размещены серебряные фонтанчики с вином, под потолками висели клетки с заморскими птицами, кругом разгуливали на свободе обезьяны и даже орангутанги.
Но был и другой Прокофий Демидов, словно скрывшийся в тени бесчисленного множества ходивших о нем легенд. Демидов — благотворитель и меценат, не жалевший денег ни на Московский воспитательный дом, ни на открытое на его средства так называемое демидовское коммерческое училище. Он пишет любопытное, основанное на тщательнейших многолетних наблюдениях исследование о пчелах и почти четверть века отдает созданию уникального гербария, который поступит впоследствии в Московский университет. Демидов умеет наблюдать, систематизировать наблюдения, делать выводы и только в общении с наукой сохраняет серьезность и собранность настоящего ученого.
Левицкий угадывает если не все, то многое в характере общепризнанного чудака. Домашний костюм, впрочем, достаточно модный и щеголеватый, как и аккуратно надетый колпак — дань странностям Демидова, но и его пренебрежению светскими условностями. Светская жизнь просто не занимает прославленного мецената.
Цветы и лейка — свидетельства увлечения ботаникой, которая Демидову явно дороже, чем ничего для него не значащее богатство интерьера. Скорее всего, он вообще относится к идее портрета достаточно безразлично. Единственное, что можно утверждать наверняка, — портрет писался в Москве. Демидов единожды заявил, что нога его не ступит за пределы первопрестольной. И свое обещание он выполнил.
На повороте от Демидовского дворца на Большом Толмачевском к Большой Ордынке сегодня кипит грязное торговище. Палатки, лотки, раскинутые на асфальте, в грязи и пыли картонки с товаром — от книг до пучков моркови. То нетерпеливая толпа, суетясь, втягивается под землю и волнами выплескивается из-под земли. Скорей! Скорей! Где тут обратить внимание на спокойную простоту Скорбященской церкви — по-настоящему, Всех Скорбящих радости, — отмеченную почерком двух очень московских зодчих, Василия Ивановича Баженова и Осипа Ивановича Бове. Кто поднимет голову полюбоваться стремительным взлетом колонн и пилястр Климентовской церкви, по-прежнему наглухо закрытой со всем великолепием своего скульптурного убранства и позолоты, дворцового размаха прошитых светом хор и уходящего в подкупольную высь вычурного иконостаса. Когда-то она должна была отметить вступление на престол Елизаветы Петровны и простояла незаконченной до появления в Москве Левицкого, бок о бок с храмом, посвященным восшествию на престол великой Екатерины, в которой Левицкий стал работать.
Всего два небольших квартала и перекресток других, запутавшихся в своих названиях переулков. Бывший Малый Маратовский, потому что неподалеку кондитерская фабрика имени Марата и потому что сам Марат — герой и душа французской революции, — он же бывший Курбатовский Малый. Через Ордынку — Погорельский, потому что так было решено назвать в 1922 году Большой Екатерининский Погорельский — потому что когда-то, в XVIII веке, переулок горел (а что не горело в деревянном городе?), Большой Екатерининский — потому что испокон веков стояла здесь Екатерининская церковь, построенная заново приказом Екатерины II. Отступившая глубоко в церковный двор, за изысканным росчерком отлитых на демидовских заводах чугунных решеток, чуть тронутая лепным кружевом, она стала — в порядке борьбы с религией — механическим заводом, прокопченным до черноты, разбитым в каждом дверном и оконном проеме для производственных нужд. И все же сохранившей маленькое замоскворецкое чудо — годами у ее стен первыми и единственными в округе пробивались сине-фиолетовые первоцветы. А старые москвичи уверяли, что если очень прислушаться, в весенние пасхальные дни шел „от великомученицы Екатерины“ еле слышный серебряный перезвон колоколов, когда-то сброшенных с колокольни и отбивших угол храма. Только в весенние дни, те самые, когда выносились и кололись на церковном дворе образа из иконостаса. Кисти Левицкого.