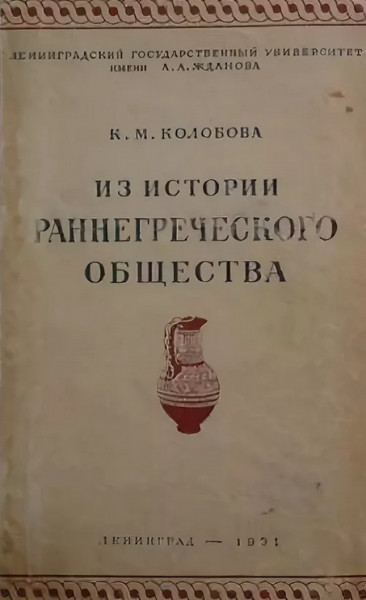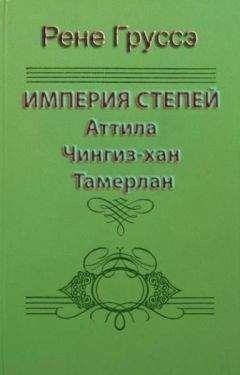розетками и чепраком, вышитым и убранным в том же стиле жреческой одежды фигур, присутствующих на церемонии. Чисто орнаментальным мотивом являются, по-видимому, длинные стрелы, с которых свисают развевающиеся ленты и повязи. На свободном (от рисунка) поле — обычное заполнение животными и растительными элементами, а также кружками и розетками, которые несомненно предвещают возникающий стиль орнаментального заполнения последующего геометрического искусства. На другой стороне — сходное изображение, более разрушенное, с тремя фигурами впереди колесницы вместо двух». [175]
Рис. 19. а — ялисский кратер, б — рисунок на кратере.
Однако, с комментарием Маюри нельзя согласиться. Прежде всего, сцены на обеих сторонах кратера, по-видимому, далеко не так сходны, как полагает автор, ибо, насколько это возможно разобрать по фотографии второй (более разрушенный) рисунок гораздо ближе по своей композиции к рисунку на кратере из Агии Параскевы, чем к сцене на оборотной стороне. Фигура сильно геометризованной лошади и общий облик женской фигуры, стоящей позади колесницы, почти тождественны.
Ялисский кратер особенно интересен тем, что он в этот период упадка микенского стиля и развития геометрического, по-видимому, выполняет почти ту же роль, что и ставшая знаменитой ваза Франсуа для переходного периода от чернофигурной к краснофигурной технике. На одной стороне сосуда лошади даны в минойской технике вполне натуралистично; элементы геометризации сказываются лишь в схематическом изображении ног; лошади второго рисунка, подобно лошадям «кипрского кратера, имеют вытянутые, несоразмерно удлиненные, утолщенные в конце геометрические формы, и с точки зрения близости к натуре выглядят, конечно, гораздо беспомощнее, чем те же лошади на другой стороне этого же кратера.
Рис. 20. Часть из общей композиции рисунка.
Желтый, коричневый и красноватый тона нашего рисунка очень близки к тонам тиринфской фрески, которая, как это показано на рис. 20, композиционно представляет из себя часть этой или аналогичной сцены.
Центральное место композиции и здесь занимает пара коней. Все 5 фигур держат руки в ритуальном жесте вытянутых ладоней, и совершенно несомненно, что этот ритуальный жест обращен непосредственно к лошадям, священный убор которых подчеркивает их магическо-религиозную сущность.
Три фигуры, стоящие на земле, отмечены стрелами, которые, конечно, отнюдь не являются лишь орнаментальным украшением, как, без всяких на то оснований, думает Маюри. Ни на одном сосуде ни этого, ни последующего периодов мы не встречаем орнамента в виде стрелы.
В фольклоре различных народов стрела отвращает угрожающую беду или злые силы.
«Стрела, как острый, колющий предмет, подобно иголке, ножу, топору, сабле, мечу, копью, а также колючему растению, наводит страх на злого духа. В этом единственно и заключается свойство стрелы и ее значение в обрядах; ничего другого в ней нет — ни человеческой души, ни плодородия, ни тем более любви, только один страх». [176]
На нашем рисунке знаком стрел, острием обращенных к коням, перечеркнуты лишь 3 фигуры: две, стоящие перед конями, и одна позади колесницы. Отвращающее значение стрел, защищающих людей от враждебной магической силы коней, здесь несомненно.
Две фигуры на колеснице, имеющие, очевидно, тесную культовую связь с впряженными в колесницу конями, не нуждаются в магической защите. Однако, поскольку культовый жест протянутых рук повторен и у этих фигур, нужно предполагать, что они — либо жрицы (жрецы?) коней, либо покойники, следующие в Аид. [177]
Возможно, что в этом случае, вопреки утверждению Маюри, главной человеческой фигурой будет являться возница, держащий поводья в своих руках. [178] Можно предполагать, что самое вождение лошади было важным элементом в культе коня, и этот момент сохранился в предании о деревянном троянском коне в качестве пережитка до поздних времен. [179]
Поскольку поводья непосредственно соприкасаются с лошадью, они, конечно, тоже становятся священными, подобно тому как веревка, привязанная к статуе Афины на афинском акрополе, служила проводником магической силы богини и давала гарантию неприкосновенности сторонникам Килона, пока не оборвалась, т. е. пока не была нарушена магическая связь Афины с людьми, держащимися за веревку.
Таким образом, рисунок родосского кратера, во-первых, дает развернутую сцену, которую лишь частично представляет тиринфская фреска; во-вторых, эта сцена представляет из себя, несомненно, одну из копий исчезнувшей минойской фрески, и, в-третьих, она дает ключ к раскрытию ритуального значения всей сцены, в которой главную роль играют впряженные в колесницу кони.
Как кажется, следы исчезнувшей минойской фрески, пользовавшейся столь широкой известностью в вазовой живописи позднемикенской поры, отчетливо вскрываются и в одной, описываемой Гомером, сцене, а именно в приготовлениях Приама к его поездке в стан Ахилла за телом Гектора. [180]
Приам с возницей запрягают коней, тех коней, которых... как это подчеркнуто у Гомера, воспитывал сам Приам «у тесаных яслей». Из дома выходит Гекуба, неся золотой кубок с медвяным вином, «чтобы, совершив возлияние, уехали». Она становится перед конями и, держа в руках чашу, обращается к мужу с увещеванием о необходимости совершить возлияние Зевсу.
Эта сцена дана с такой удивительной наглядностью, что можно с уверенностью предполагать: перед глазами певца была фреска, которую он тщательно описал, но смысл изображенной на фреске сцены был уже забыт, и поэт осмысляет ее по-своему, подобно тому как такое же переосмысление происходило и при описании сцен, изображенных на щите Ахилла. Нужно думать, что эти описания — сравнительно более позднего «литературного» происхождения и внушены авторам поэмы минойско-микенскими изделиями, уже тогда привлекавшими внимание, как «предметы старины».
Если попробуем зрительно воспроизвести картину, набросанную у Гомера, то увидим уже знакомую нам сцену: в центре находится колесница с впряженными в нее конями; на колесницу всходят 2 фигуры; перед конями стоит женская фигура с кубком, наполненным вином. Готовится возлияние. Кому? — Конечно, коням.
Но поэт переосмысляет сцену уже по-своему: Приам, вняв увещаниям Гекубы, берет у нее кубок, идет на середину двора и там (в стороне от колесницы и от коней) должен совершить возлияние.
Сцена переосмыслена и продолжена, но жест остался, и Гекуба, вставшая перед конями, воскресает перед нами в позднемикенской вазовой живописи.
Однако другое место в той же «Илиаде» с несомненностью вскрывает подлинный смысл этого ритуального жеста, как обращенного непосредственно к коням. [181] Так, Гектор, побуждая коней ринуться в бой на Диомеда, обращается к ним с молитвой, ибо именно так нужно воспринимать заключение поэта, замыкающее слова Гектора: «...так говорил он, молясь». [182] Обращаясь к коням, Гектор поименно называет каждого из них: «Ксанф, и ты, Подарг, и Эфон, и божественный Ламп...». [183]
Гомеровские поэмы отражают тот