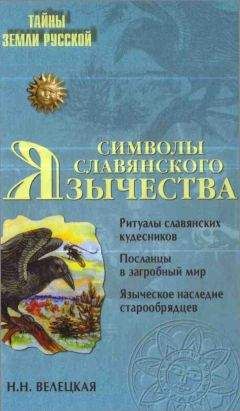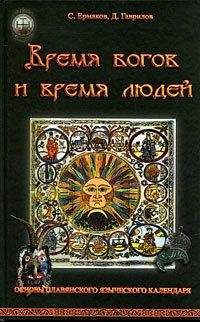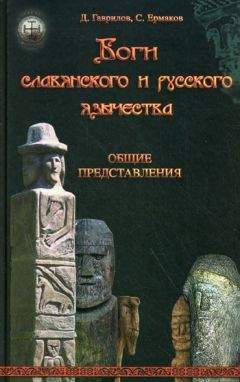Если же говорить о генетических корнях этого явления, то они уходят в древнеиндоевропейские представления об извечном круге метаморфоз и о зависимости последующих превращений от земной жизни, в последний ее период в особенности. Главное же, от чего зависит перевоплощение в более высокие формы, — моральные устои, последовательность в соблюдении установленных жизненных принципов, высота духа и интеллекта в момент ухода из этой жизни. Именно это и заставляло древних индусов смело вступать в пламя погребального костра. Эти же представления прежде всего поддерживали древнюю традицию ухода в «иной мир» и в Средневековье.
В старообрядческой среде традиция самосожжений давала вспышки в разные периоды ее истории, но уже не в таких массовых масштабах, как в период своего апогея. Они носили преимущественно локальный или даже единичный характер и были связаны, как правило, с реакцией на возобновляющиеся время от времени гонения. Однако в реакции этой заметна тенденция, причем нарастающая и преобладающая, к распространению таких старообрядческих толков, как «бегуны», «странники» и «пустынножители».
В то время как старообрядческие самосожжения — вещь широко известная, нашедшая многообразные отражения и в архивных источниках, и в литературе XVII — начала XX вв., другие формы «ухода» и отправления на «тот свет» отражены в источниках слабо и весьма фрагментарно. Это и не удивительно, поскольку «научное исследование русских раскольников у нас в России поставлено очень слабо, и потому во многих отношениях факты, имеющие не столько богословский, сколько этнографический интерес, остаются науке малодоступными, а иногда и неизвестными»{139}. Это замечание одного из самых крупных знатоков этнографической историографии относится к началу XX века, когда многие из архаических особенностей старообрядческого жизненного уклада еще не только хранились в памяти стариков и в рукописной традиции, но и были живым явлением в старообрядческой среде, — если и не повсеместно, то в окраинных группах, таких, как бухтарминские старообрядцы, или «поляки» в Белой Кринице на Буковине и в Змеиногорском округе на Алтае, в уединенных местностях Русского Севера и Заволжья. С того времени общая картина изучения старообрядчества почти не изменилась в отношении выявления новых сведений об архаических явлениях.
«Красная смерть» — одно из самых архаических явлений старообрядческого жизненного уклада по своим генетическим корням и по некоторым элементам формального отправления этого ритуального действа. Самосожжение — один из видов ее. Этим понятием охватываются и другие формы добровольной смерти — задушение красной подушкой, замуровывание, голодание. К добровольному голоданию до смерти, по-видимому, примыкает и сорокадневный пост в лесу, который часто кончается там голодной смертью от истощения.
Сведения о «красной смерти» настолько скудны и отрывочны, что детальному исследованию это явление не поддается. Осмысление его возможно лишь в общих чертах на основании тех данных, какие имеются в распоряжении.
Прежде всего серьезного внимания заслуживает самое восприятие добровольной смерти — она ставится выше естественной. Представляется вполне вероятным, что объяснение этого положения приравниванием к мученичеству{140} — несколько односторонне. По всей видимости, это восприятие самих старообрядцев, корни же явления следует искать в ритуале «ухода на тот свет». И как ни скудны сведения о «красной смерти», сопоставление их с данными о ритуале проводов на «тот свет» у славян и других народов Евразии приводит к заключению о том, что «красная смерть» является одной из рудиментарных форм протославянского ритуала проводов в потусторонний мир. Прежде всего следует отметить, что «красная смерть» — стадиально более ранняя форма из известных у славян пережиточных форм этого ритуала, таких, как «сажать на лубок» или «на саночки», или же форм умерщвления стариков у южных славян отводом в глухой лес или ударом по голове, сажанием в бочку, накрытую войлоком и т. п.{141}. Все эти поздние, пережиточные формы, как правило, носили характер исполнения варварского застарелого обычая, где со стороны жертв его было не добровольное побуждение, а вынужденное обычаем подчинение. «Красная смерть» же ближе стоит к древнеиндоевропейской форме ухода на «тот свет» путем добровольного восшествия на погребальный костер.
Основные элементы «красной смерти» сближают ее с обычаем добровольной смерти у малочисленных народов Севера. Прежде всего это относится к самому восприятию такой смерти: принявшие ее считаются предками — покровителями семейства, она также считается выше естественной, и погребение умерших добровольной смертью происходит более архаическим способом, при соблюдении сложного, детально разработанного ритуала{142}.
В «красной смерти» очень существен такой элемент ритуала: «Важно, чтобы умирающий не сам „наложил на себя руки“. С его стороны нужна решимость умереть, а прочее пусть сделают силы природы или рука другого человека»{143}. Здесь также прослеживаются аналогии с ритуалом малочисленных народов Севера. Добровольно умерщвляемого пронзали копьем или стрелой из лука, закалывали ножом или же душили ременной петлей, а также погребали в земле заживо, с одной стороны, и пережиточными формами ритуала проводов на «тот свет» у славян, и прежде всего увозом дряхлых стариков в лес и оставлением там на произвол судьбы, погребением заживо и др.{144}.
Таким образом, «красная смерть» — стадиально более архаическая форма ритуала проводов на «тот свет», также, разумеется, пережиточная, несущая в себе многие свидетельства деградации ритуала, свойственные и остальным пережиточным формам его, известным у славян. Однако есть элементы, уводящие «красную смерть» в глубокую языческую древность. Это касается не только самосожжения, где аналогии с древнеиндоевропейской формой ритуала ухода в космический мир богов и обожествленных предков все-таки удается выявить под слоем многообразных напластований. Элементы эти прослеживаются и в форме удушения красной подушкой. Кроме собственного решения об уходе в «иной мир», это — отправление основного действа сыном или другим родственником; «душила»{145} — специальное лицо, отправитель этих функций; красный цвет подушки. Рассмотрение этих основных из архаических элементов следует предварить следующим замечанием: деградация рудиментов языческого ритуала явственнее всего проявляется в том, что отправителем его могла быть и дочь решившего умереть «красной смертью». В этом проявляется характерное качество истории традиции: даже самые архаические в целом рудименты языческих явлений могут содержать элементы деградации, причем столь позднего характера, каких не встречается даже в самых трансформированных в целом формах одного и того же рудиментарного языческого явления. Свидетельств об отправлении основного действа ритуала проводов на «тот свет» дочерью мне встречать не приходилось ни в первоисточниках, ни в литературе; в известных нам формах его в качестве отправителя фигурирует обычно старший сын или старший родственник по мужской линии.
Сведения о «душилах» столь скудны, что трудно составить о них ясное представление, тем более что располагаем мы сведениями начала XX века, из которых можно заключить, что к тому времени прежние ритуальные функции этого отправителя действа были в значительной мере утрачены как в сознании самого «душилы», так и в образе его жизни, отличающемся от строгих ритуальных и моральных норм старообрядческих «стариков», «попов», «наставников». Но само наличие специального отправителя действа уводит генетические корни «душилы» к языческим волхвам — отправителям ритуальных действ языческого ритуального комплекса. Рудиментарные формы ритуала проводов на «тот свет» в традиционной календарной обрядности несут на себе свидетельства первенствующей роли в языческом ритуале проводов на «тот свет» волхвов{146}; косвенные свидетельства тому находятся и в средневековых письменных источниках{147}.
Весьма существенным и красноречивым элементом является красный цвет подушки. Символика его, связанная с огнем и Космосом, говорит о направленности самого действа — отправлении в обожествленный Космос. О связи с обожествленным Космосом этой детали атрибута ритуального действа свидетельствует аналогия его с красным цветом кафтанов для отправления богослужения в большие праздники у «стариков» бухтарминских старообрядцев{148}. Поскольку свидетельства о «красной смерти» через удушение подушкой красного цвета относятся к позднему времени, представляется возможным, что эта форма «ухода в иной мир» — относительно поздняя, появившаяся на смену самосожжению как форма более легкая. Предположение это находится в соответствии со свидетельствами о замене сожжения заживо жен в погребальном костре мужа предварительным душением их, имеющимися в восточных источниках, касающихся древних славян{149}. В силу изложенных соображений относительно символики и функциональной предназначенности красной подушки трудно согласиться с положением Д. К. Зеленина: «Красная подушка явилась тут, скорее всего, по простому созвучию с красною смертью»{150}. Поскольку в народной традиции знаковая сущность атрибутов ритуальных действ играет важнейшую роль, красный цвет подушки и наименование ухода на «тот свет» по принятому решению самого «уходящего» совершенно не обязательно должны исходить друг от друга. Цвет подушки обозначает направленность действа и форму ритуального отправления его. Название же формы этого действа не обязательно возводить к древнерусскому языку. Как ни обращались старообрядцы к реставрации и сохранению древнерусской старины, далеко не все вошедшее в их быт и лексикон со временем чтимого ими, прежде всего «древлерусского благочестия» (а до начала раскола общее и восточному славянству в целом, и великорусской народности в особенности), сохранилось в более цельных формах только в старообрядческой среде. Кроме того, как ни ограждало себя старообрядчество от влияний времени и окружающего населения, полностью предохранить себя от перемен в народной культуре и жизненном укладе в целом оно, конечно, не могло. Представляется вполне вероятным, что самое наименование «красная смерть» древнее атрибута ее — красной подушки — и является отголоском, а может быть, и сохранением старинного наименования, имевшего когда-то хождение в великорусском наречии. Если исходить из великорусского значения слова «красный» — прекрасный, превосходный, лучший{151}, можно думать, что название «красная смерть» связано с представлением о добровольном уходе из жизни как лучшей, высшей форме перехода в иной мир и, выражаясь современным языком, сулящей наилучшие перспективы в загробном существовании души. Нельзя исключать и того обстоятельства, что в таких поговорках, как «На миру и смерть красна», «Весело пожить, красно умереть»{152}, звучат отголоски ритуала проводов на «тот свет» как «Отца на лубе спустил, и сам того же жди», «Живем не на радость, и пришибить некому», «Ты чужой век живешь, пора тебя лобанить», «Умереть — не в помирушки играть» и т. п.{153}. И тем не менее именно сохранность в старообрядческой среде древнерусского слоя заставляет обратиться к значению «красьный» — «красъ» — «кръс» в древнерусском языке. «Красьный» наряду с основным своим значением — «прекрасный» еще и аналогично слову «кръсьный»; точно так же слово «красъ» употреблялось вместо «кръсъ»{154}.