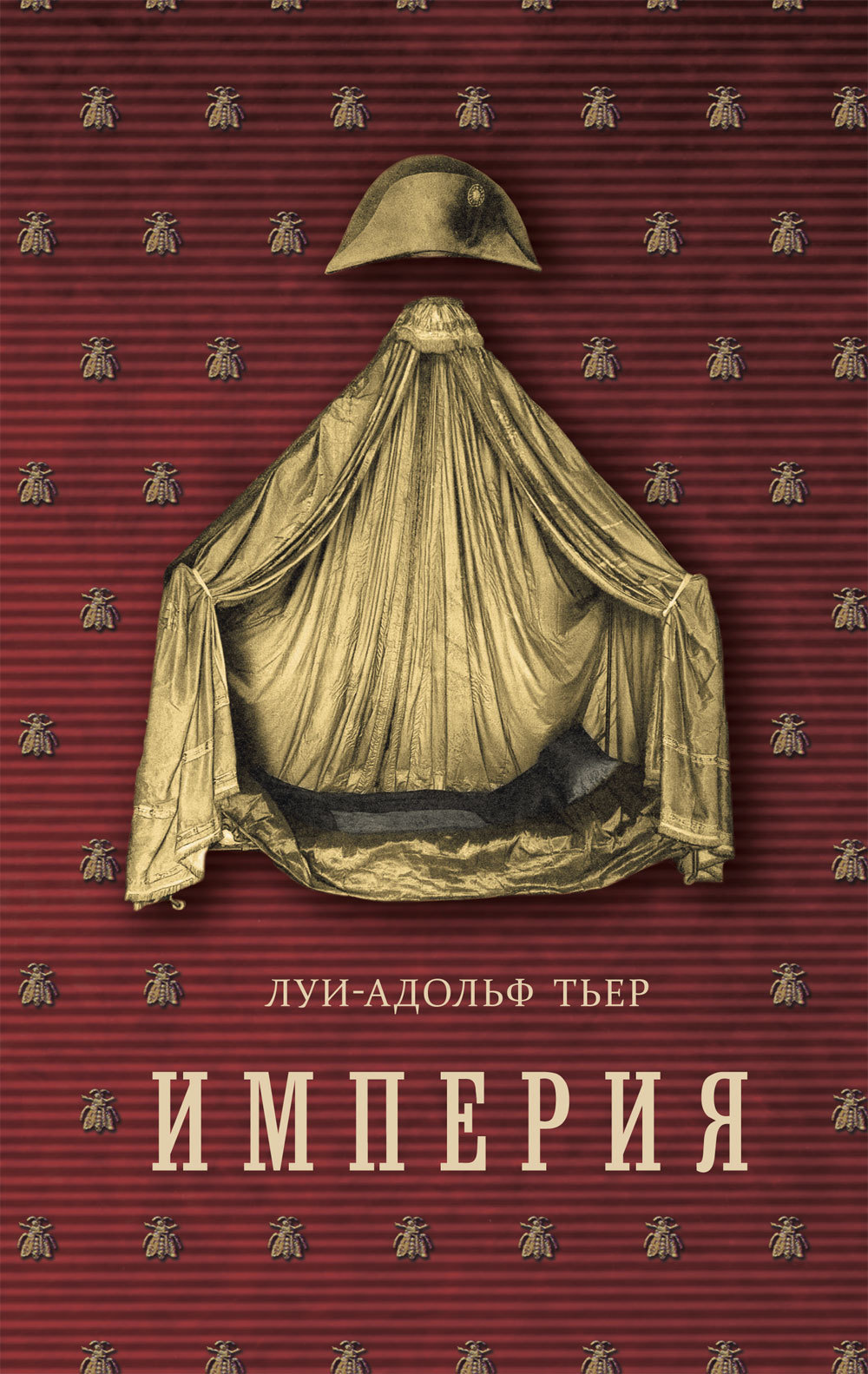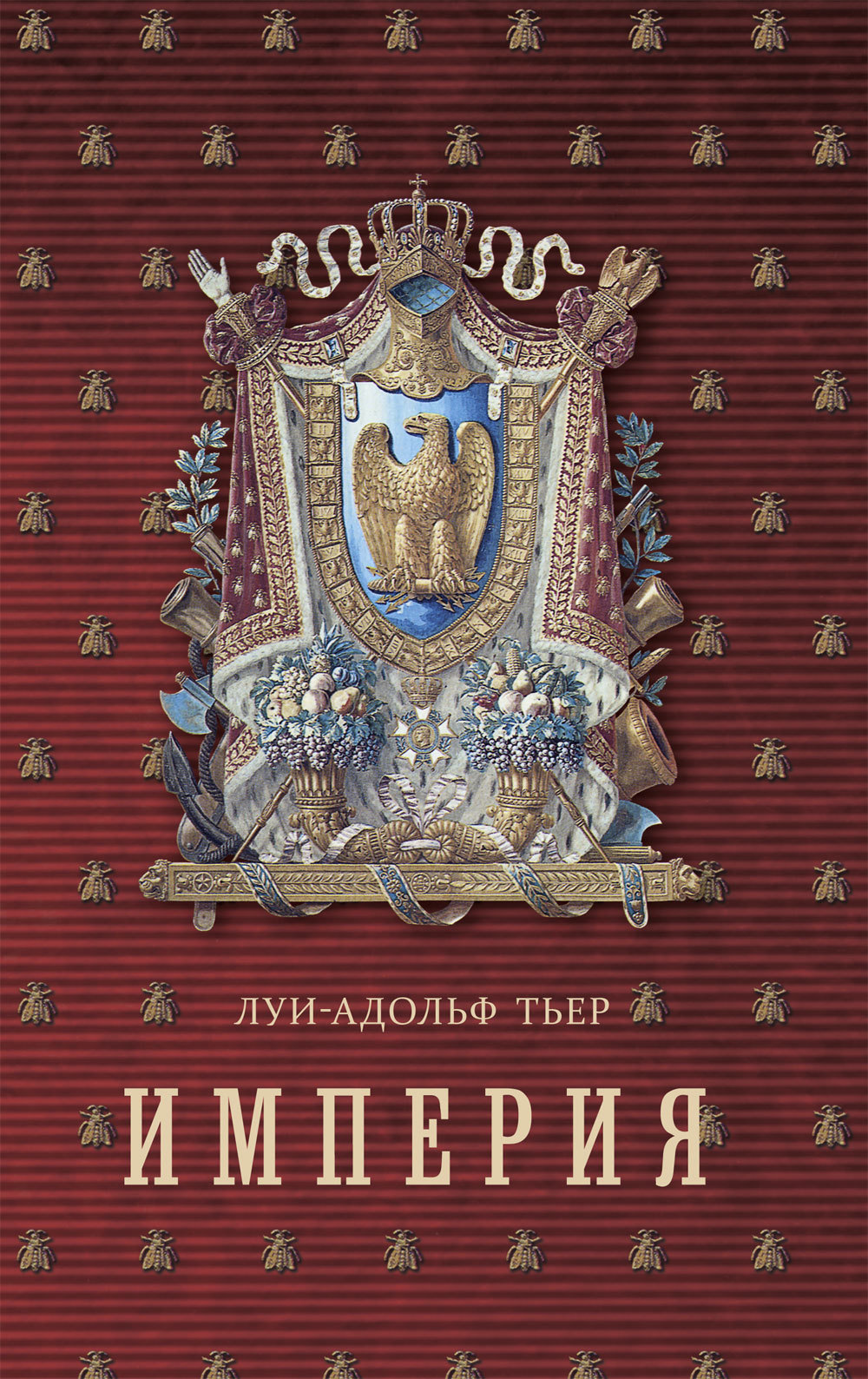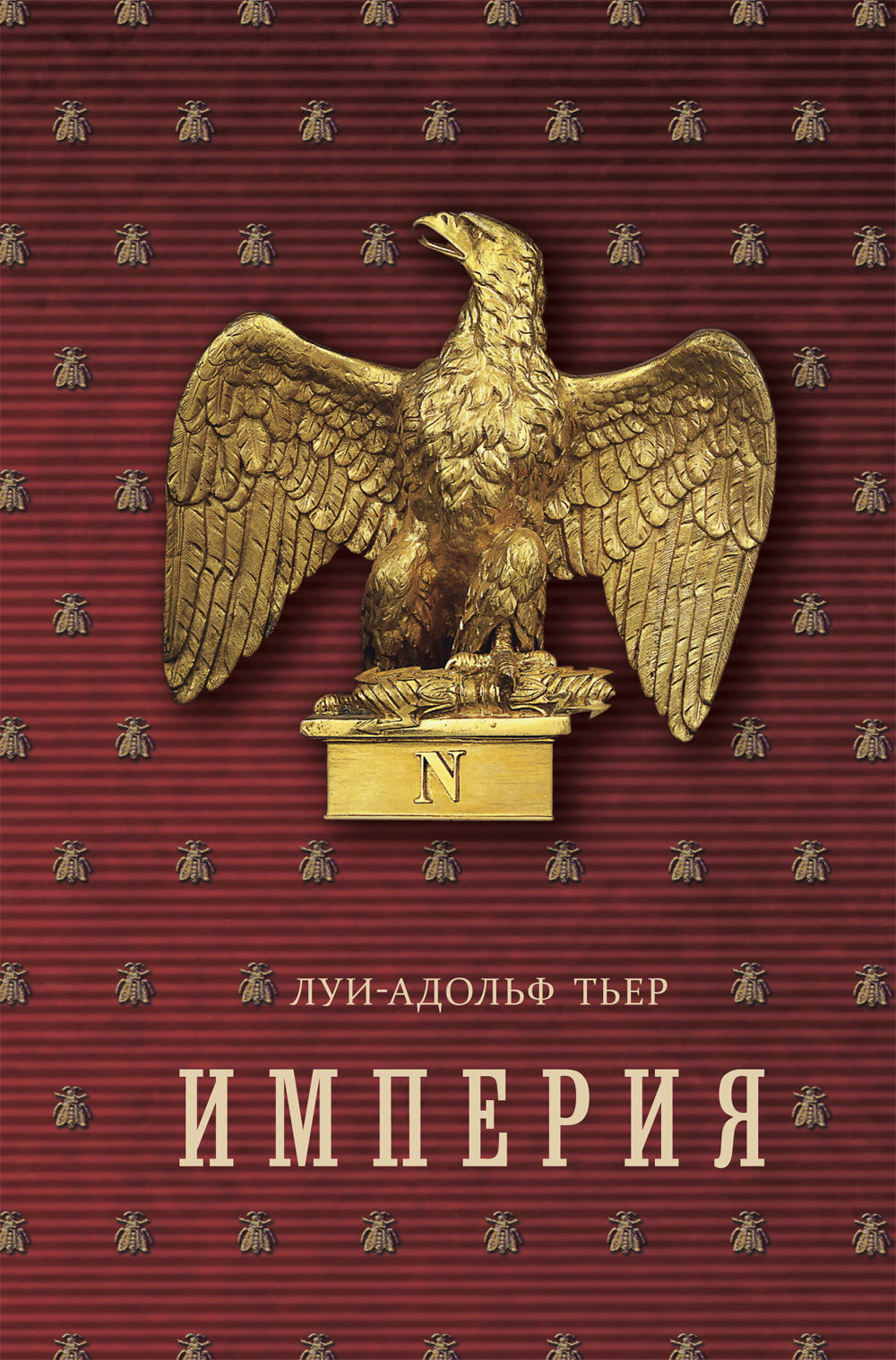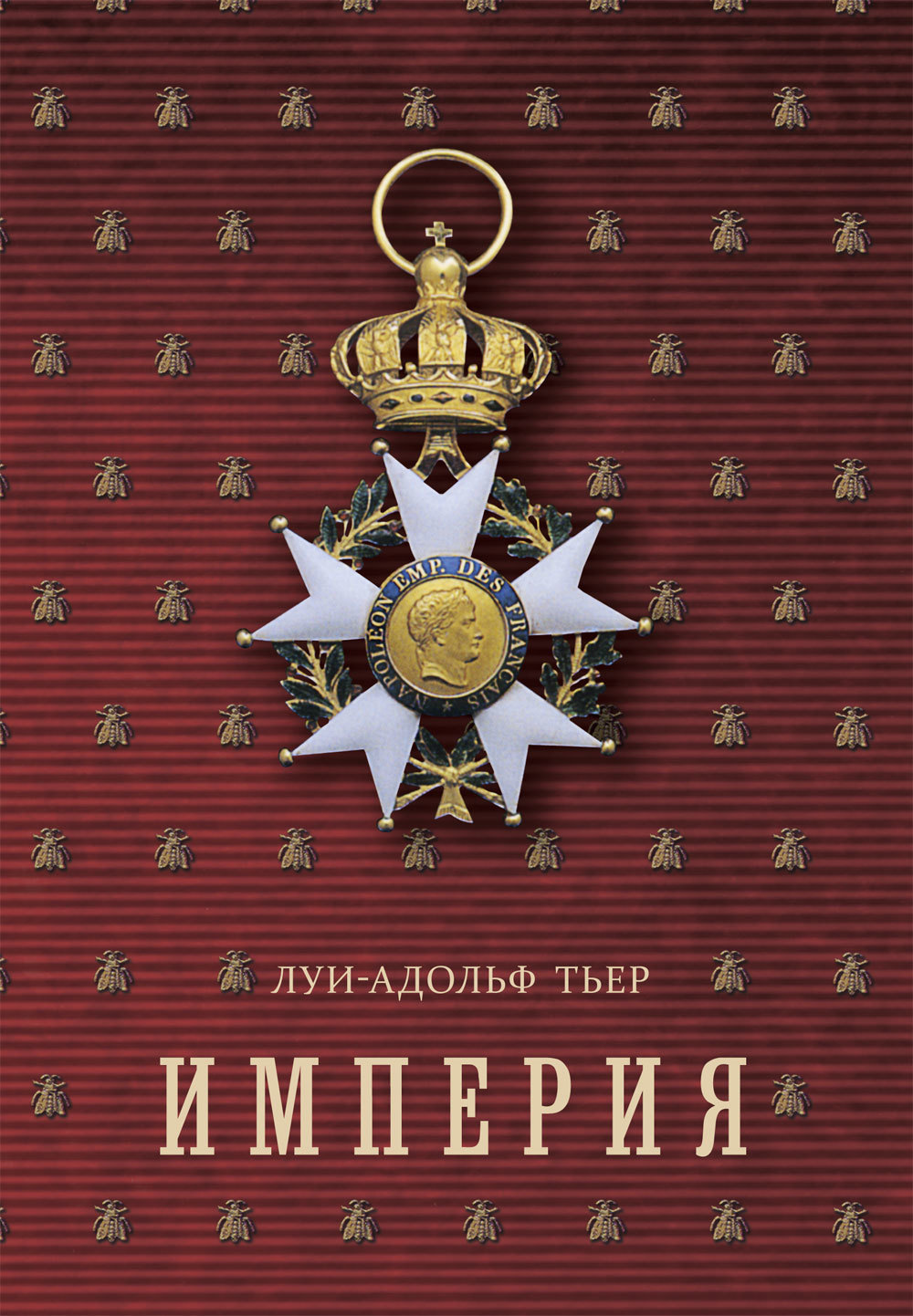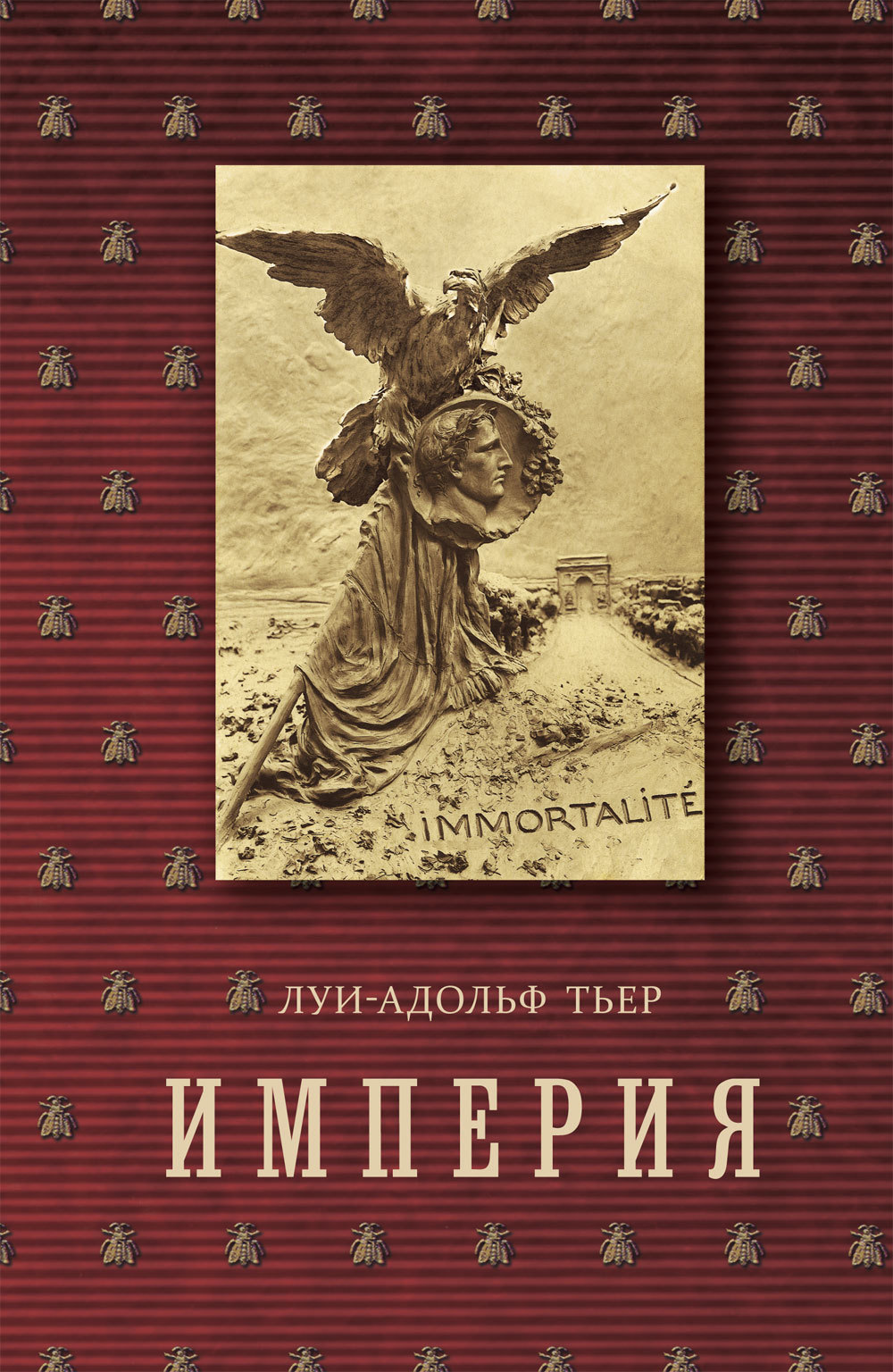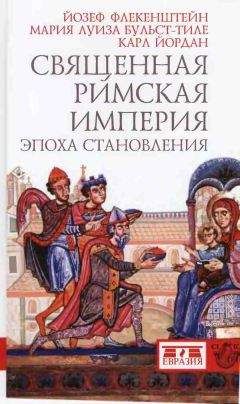и сразу направился в ратушу к муниципальным властям, единственным оставшимся в брошенной столице. Но эти власти уже переместились в замок Бонди, дабы представить и рекомендовать население Парижа государям-союзникам. Император Александр со всей любезностью принял двух префектов и сопровождавшую их депутацию. Завладев, наконец, Парижем, Александр чувствовал себя на вершине блаженства. И теперь, когда он удовлетворил свою гордость, в нем взяли верх лучшие чувства. Более всего ему хотелось нравиться, и никому он так не желал понравиться, как французам, которые столько раз побеждали его. Победив их, он страстно желал их рукоплесканий.
Поэтому российский император с необычайной любезностью принял префектов и парижскую депутацию и повторил им то, что уже столь часто говорил: что воюет вовсе не с Францией, а с безумным честолюбием одного-единственного человека; что не намерен навязывать Франции ни правительство, ни унизительный мир, но только хочет освободить ее от деспотизма, от которого она пострадала не меньше, чем Европа. Он гарантировал столице самое мягкое обращение при условии, что парижане проявят миролюбие и выкажут к своим новым хозяевам такое же дружелюбие, какое увидят сами. Он без труда согласился доверить охрану порядка в Париже Национальной гвардии и обещал не размещать солдат на постой у жителей. Александр попросил только продовольствия, которое имелось и было ему обещано.
По окончании общей беседы он обратился к каждому члену депутации по отдельности и вновь заверил, что, принеся Франции самый почетный мир, он оставит ей еще и всецелую свободу в выборе правительства. Ему, казалось, особенно не терпелось узнать, что сталось с Талейраном, что делает этот великий человек и где теперь находится. Присутствовавший при беседе Нессельроде попросил члена депутации Делаборда, с которым был знаком, отправиться к Талейрану, удержать его в Париже, если тот не уехал, и заверить от лица государей в их совершеннейшем почтении.
В то время как префекты находились у Александра, офицеры обеих армий договаривались об условиях оставления Парижа. Договорились, что в семь часов утра солдаты Мармона и Мортье сдадут заставы солдатам союзников, после чего государи войдут в Париж.
Тем временем Коленкур, не найдя никого в ратуше, и сам отправился в замок Бонди, встретил по дороге возвращавшуюся депутацию и с некоторым трудом добился приема у Александра. Александр встретил его с былой сердечностью, даже ласково обнял и объяснил, почему не принял его в Праге. Затем, вернувшись к великим событиям дня, сказал, что не помнит зла, желает только мира и пришел за ним в Париж, поскольку не нашел его в Шатийоне. Он хочет мира, почетного для Франции и надежного для Европы, а потому ни он, ни его союзники не согласятся более вести переговоры с Наполеоном. Они без труда найдут, с кем начать переговоры, ибо со всех сторон до них доходят известия о том, что Франция устала от Наполеона не меньше Европы и ничего так не желает, как избавиться от его деспотизма. Александр добавил также, что союзники не намерены ничего навязывать благородной Франции, а намерены, напротив, предоставить ей самой выбрать государя и готовы заключить мир с тем государем, которого она выберет.
Ошеломленный этой спокойной и мягкой, но решительной речью, Коленкур попытался оспорить какие-то ее пункты. Он постарался дать Александру почувствовать, что союзникам, как представителям монархического порядка в Европе, опасно выступать зачинщиками революции и низлагать давно признанного государя, восхваленного всеми дворами и принимавшегося ими в качестве союзника, а одним из них принятого даже в качестве зятя. Он указал, как опасно доверяться недовольным и ошибиться относительно подлинных чувств французов, которые сохраняют признательность Наполеону за славу и внутренний порядок, хотя и не одобряют его беспрерывных войн, и ныне не расположены менять его могущественную и славную руку на немощную и забытую руку Бурбонов. Коленкур заявил, наконец, что опасно толкать к отчаянию Наполеона и армию и подвергать новым и ужасным испытаниям нежданную победу, которую можно упрочить теперь же путем подписания справедливого и умеренного мира.
Александра, казалось, не тронули эти доводы. Он отвечал, что союзники будут слушать не недовольных, а здравомыслящих людей, непредубежденных и бескорыстных; что склонности опрокидывать троны у союзников нет и быть не может; что они учитывают опасность доведения Наполеона до отчаяния, но решили, зайдя так далеко, довести борьбу до конца, чтобы не пришлось ее возобновлять в условиях, возможно, менее благоприятных; что они готовы, разумеется, к необычайным ударам со стороны Наполеона, пока у него остается меч в руках, но даже если их оттеснят от Парижа, они будут возвращаться, пока не заключат надежный мир, а на надежный мир невозможно рассчитывать, имея дело с человеком, который опустошил Европу от Кадиса до Москвы.
К этому заявлению Александр присовокупил новые заверения в дружбе с Коленкуром, пригласил навестить его еще раз и обещал принимать во всякое время, но и с него взял обещание сохранять в Париже сдержанность парламентера. Затем Александр оставил Коленкура, ибо близился час триумфа, и он испытывал нешуточное нетерпение. Ему не хотелось сжигать Париж, он хотел триумфально вступить в него.
В четверг утром, 31 марта 1814 года, в день печальной и неизгладимой памяти, государи-союзники во главе с Александром, присвоившим себе главную роль, начали свое триумфальное вступление в Париж.
Александр ехал через предместье Сен-Мартен верхом, с королем Пруссии по правую руку и князем Шварценбергом по левую, в сопровождении блестящего Главного штаба и под эскортом пятидесяти тысяч отборных солдат с белыми повязками на рукавах, принятыми ими во избежание ошибок на поле боя. Прокламация двух префектов, возвестив о доброжелательных намерениях монархов, уведомила парижан о предстоявшем торжественном и горестном событии. Трудно передать волнение населения, находившегося во власти самых противоположных чувств. Народ Парижа, всегда столь чувствительный к чести французского оружия, разгневанный тем, что не получил ружей, которых требовал, даже подозревавший в измене тех, кто проявил только слабость, с плохо скрытым отвращением переносил присутствие иностранных солдат. Более просвещенная буржуазия, будучи не менее патриотична, всё же оценивала причины и следствия событий и колебалась между ужасом вторжения и удовлетворением от окончания деспотизма и войны.
Наконец, старая французская знать, из ненависти к революции забывшая о славе страны, славе, которая некогда была ей столь дорога, испытывала при виде падения Наполеона безумную радость, которая не позволяла ей в полной мере почувствовать катастрофу. Несколько знатных особ, желая, по-видимому, вызвать в Париже событие, подобное событию в Бордо, разгуливали по предместью Сен-Жермен, площади Согласия и бульварам, размахивая белым флагом и испуская крики «Да здравствует король!», остававшиеся безответными и даже нередко вызывавшие явное неодобрение. Спокойная и печальная гвардия несла повсюду службу, готовая поддерживать порядок, который никто, впрочем,