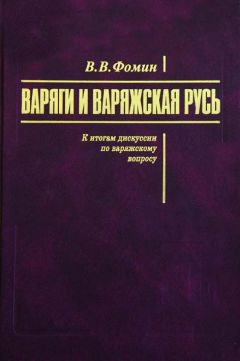В историографии 30-х - 60-х гг. XIX в. слышался протест против низкой оценки Ломоносова как историка. Так, Н.И. Надеждин, все же более сочувствуя Миллеру, чем Ломоносову, заметил, что его исторические опыты отличаются «воздержанностью и здравомыслием суждений», сказав вместе с тем о «множество грубейших ошибок» Байера. Н.В. Савельев-Ростиславич подчеркивал, что Ломоносов придал «древнему нашему поверью» о выходе варягов с южнобалтийского побережья Балтики «ученый систематический вид... и отрешил большую часть тех вымыслов; которыми и наша и чужеземная старина... потешалась в своих исторических помыслах и школьных мудрованиях о происхождении и прозвании руссов». Как заключал исследователь, «нельзя не удивляться проницательности ума Ломоносова, который... силою собственного соображения вознесся до такой высоты, что мог построить такую замечательную теорию нашей и общеславянской истории». В.И. Ламанский негативное отношение к Ломоносову со стороны немецких ученых, работавших в Академии наук в разное время, объяснял недостатком общего характера немецкой образованности и национальной предубежденностью немецкого общества.
Но с особенной силой этот протест прозвучал тогда из уст П.А. Лавровского. Указав, что Ломоносов для России «был и есть беспримерным явлением, недосягаемым великаном», ученый констатировал, что он в обработке русской истории, как и на «не открытой прежде почве» русского языка, совершил свой «многотрудный подвиг». До него, говорит Лавровский, не было труда, обнимавшего бы в общих чертах историю России, и что он в стремлении написать сочинение, на которое не были способны иностранцы, «вооружился всеми источниками, какие только могли находится у него под руками», причем тогда еще не было переводов большинства приводимых им греческих и латинских авторов. И Лавровский справедливо отмечал, что, во-первых, современная наука многое повторяет, в том числе и в варяжском вопросе, из Ломоносова, хотя и забывает при этом о нем, во-вторых, «русские привыкли судить о своих великих людях по отзывам Запада», и, в-третьих, «некоторые из русских немцев выбивались из сил, чтобы унизить и сдавить гениального туземца». Прозорливость ума, обширность и глубина знаний Ломоносова позволили ему указать, например, на родство венгров с чудью (до этого только в XIX в. дошла филология), а сами венгры, «кажется, убедились в этом только с 1864 г., после почтенного сочинения Гунфальви». «Краткий Российский летописец», по мнению Лавровского, представляет собою такое руководство по русской истории, «какому подобного не предлагала тогдашняя литература».
Такой же мощи голос в защиту Ломоносова, как у П.А. Лавровского, раздастся потом почти через полвека. В 1912 г. И.А. Тихомиров, прекрасно понимая, почему Ломоносова пытаются вывести за рамки исторической науки, специально показал, какие мнения, высказанные им против норманизма, остаются в силе. И он очень высоко оценил его доказательства славянской природы названий Холмогор и Изборска, происхождения руси от роксолан, его указания на совершенно разрушавшие норманистские построения факты: что в Скандинавии неизвестно имя «Руси», что в скандинавских источниках нет информации о призвании Рюрика, что варяжские князья клялись славянскими, а не норманскими божествами, что термин «варяги» был приложим ко многим европейским народам. Научную значимость антинорманизма Ломоносова Тихомиров видел прежде всего в том, что он выступил против объяснения норманистами летописных имен, которые «коверкались в угоду теории на иностранный лад, как бы на смех и к досаде русских». Ломоносов, справедливо подчеркивал исследователь, «первый поколебал одну из основ норманизма - ономастику... он указал своим последователям путь для борьбы с норманизмом в этом направлении», окончательно уничтожившим привычку норманистов объяснять чуть не каждое русское слово «из скандинавского языка».
Достоинство трудов Ломоносова, по мнению Тихомирова, заключается в том, что он устранил из русской истории баснословия (отрицал происхождения Москвы от Мосоха, сомневался «относительно грамоты Александра Македонского», якобы данной славянам), в его убеждении, что не существует несмешанных наций. Говоря о мыслях Ломоносова об участии славян в великой переселении народов, в разрушении Западно-Римской империи, ученый отметил, что они «в настоящее время сделавшиеся ходячими истинами, будучи выражены полтораста лет тому назад да еще не специалистом-историком, указывают только на гениальность Ломоносова». Учитывая «состояние русской исторической науки того времени и имея в виду цель, для которой составлен Краткий летописец», Тихомиров полностью согласился с оценкой, данной ему П.А. Лавровским, а в «Древней Российской истории» видел первый научный труд, основанный на первоисточниках, одно «из выдающихся исторических произведений XVIII века», имеющее цель «самым изложением вдохнуть любовь к истории своего отечества и уважение к предкам».
Над Ломоносовым, ко всему же, долгое время тяготело еще больше затмевавшее суть дела обвинение, злонамеренно пущенное в ход Шлецером и подхваченное в науке, что именно он «донес Двору» об оскорбляющей чести государства диссертации Миллера. Хотя Шлецер прекрасно знал, что сам Миллер инициатором ее обсуждения считал П.Н. Крекшина, не забывшего ему своего фиаско как историка. Именно Крекшин, говорил С.М. Соловьев, начал распускать слухи, что в диссертации «находится многое, служащее к уменьшению чести русского народа», после чего советник Канцелярии Академии наук И.Д. Шумахер направил ее на освидетельствование академикам. П.С. Билярский же пришел к выводу, что «завязка» следствия была «изобретена одним Шумахером, без всякого постороннего влияния». П.П. Пекарский, опровергнув мнение, что все началось «по наущению Ломоносова», заключил: у истоков дела Миллера стоял асессор Канцелярии Академии наук Г.Н. Теплов, поддержанный затем Шумахером. М.И. Сухомлинов, верно заметив, что «судьба речи Миллера послужила поводом к несправедливым нареканиям на Ломоносова», еще раз продемонстрировал, специально обращаясь к почитателям таланта русского ученого, «красневшим», по их словам, за своего кумира только в случае с Миллером, что почин и руководящая нить в этом вопросе «принадлежит отнюдь не Ломоносову», а Шумахеру. Миллер, остается добавить, в октябре 1750 г., т.е. уже после отклонения своей диссертации, в чем большую роль (но далеко не исключительную) сыграл Ломоносов, в письме президенту Академии сообщал, что Шумахер давал читать речь Крекшину и об его суждениях сообщал руководству Академии.
Звучание голосов дореволюционной поры в защиту Ломоносова как историка не сказалось на науке. Во-первых, оно было все же слишком слабым, во-вторых, негативную оценку ему давали норманисты, а при тотальном господстве их доктрины этой оценке было обеспечено общее признание. Поэтому, мнение о несостоятельности Ломоносова как историка было перенесено в советскую историческую науку предвоенного времени. И это при том, что тогда основательной ревизии были подвергнуты многие положения предшествующей историографии. «Страстность» выступления русских ученых против диссертации Миллера продолжали объяснять, как и прежде, тем, что тот «нанес величайшее оскорбление русскому народу, настаивая на его варяжском происхождении», что в отношении Ломоносова к трактовке варяжского вопроса «немецкими учеными выразился протест русского национального чувства, вызванный временем Бироиа». В те же годы все также старательно продолжался лепиться образ Ломоносова, сотрудничавшего и дружившего со многими иностранными учеными, как нетерпимого националиста и ксенофоба. Так, Н.А.Рожков утверждал в 1923 г., что «патриот в духе того времени, националист Ломоносов... отверг норманскую теорию и сделал варягов славянами», по той же причине отрицательно относясь к немцам, работавшим над русской историей. Через десять лет Г.П. Шторм массово растиражировал в серии «ЖЗЛ» мнение, как был «глубоко неправ» Ломоносов, «обрушившись» на Миллера - «беспристрастного историка» и «отца» русской научной историографии, стоявшего «несравненно выше Ломоносова, как историка» - «с окрашенной в сугубо-националистический тон критикой».
В подобном ключе разговор о Ломоносове был перенесен в работы по историографии, в чем приоритет принадлежит Н.Л. Рубинштейну, только и говорившему в 1941 г. о поруганном национальном чувстве русского Ломоносова, лишь «во имя национальной гордости» восставшего против монополизации иностранцами исторической науки, норманской теории и вывода Шлецером русских слов из немецкого языка. С порицанием Рубинштейн заключает, что Ломоносов, не будучи «историком-специалистом» и борясь с иноземным засильем в Академии, «без достаточного основания распространил это свое отношение и на подлинных представителей русской науки из иностранцев, как Миллер». По его словам, «национальная идея и ее литературное оформление в основном определили работу Ломоносова над русской историей», что он был весьма далек даже от критического духа «Истории Российской» Татищева, что его аргументация «малоубедительна». Работы же Миллера, где, как уверяет Рубинштейн, впервые показано «значение источника во всей широте и во всем объеме» и мобилизован огромный фактический материал, он характеризует как «совершенно новый этап в развитии русской исторической науки». Но особенно ученый выделял Байера, отмечая «настойчиво проводимую» им в своих исследованиях «строгость научной критики, точность научного доказательства...». Хотя тут же констатировал, ставя под сомнение сказанное, полное отсутствие у него русских источников. Предельно высоко оценивал Рубинштейн и требование Шлецера «точности научного исторического метода», «точности доказательства каждого своего положения».