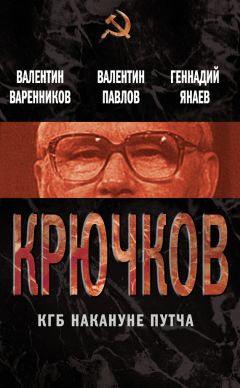Стоит ли удивляться, что следователи, которые позволяли себе — назовем это так — вежливость в обращении с арестованными, то есть не били их, вызывали подозрение: их начинали уличать в сочувствии к врагу.
Вероятно, в искоренении этой мягкотелости в «Основных принципах следственной работы в органах МГБ», разработанных под руководством начальника следственной части МГБ Леонова и утвержденных министром МГБ Виктором Абакумовым в 1950 году, содержалось требование об «усилении интенсивности допросов арестованных».{13}
Что уж тут говорить о таких «мелочах», как аресты без санкции прокурора (тем паче, что у карательных органов, начиная с 1932 года и по 1954 год, существовала своя, ведомственная прокуратура), непредъявление обвинения в течение нескольких месяцев, а то и лет, содержание человека в тюрьме или даже расстрел его после того, как он был оправдан судом… Что об этом говорить? Таковы были правила. Ими и только ими руководствовался Хват.
Ну, а что же законы? Законы? Они, конечно, были. Вот, например. 2 января 1928 года XVIII Пленум Верховного Суда СССР принимает постановление «О прямом и косвенном умысле при контрреволюционном преступлении» — вносит разъяснение в то, что судьям следует понимать под контрреволюционными действиями. Пункт «б» звучал так: «…действия, когда совершивший их, хотя и не ставил прямо контрреволюционной цели, однако сознательно допускал их наступление или должен был предвидеть (выделено мною — Е.А.) общественно опасный характер последствий своих действий».{14}
В следующие двадцать с лишним лет, в том числе и благодаря этому «разъяснению», миллионы людей пойдут в лагеря только потому, что, по мнению следователя, в их мозгу могла возникнуть сама мысль о контрреволюционных действиях — факт действия доказывать не надо было.
Впрочем, о каких законах — в цивилизованном понимании этого слова — может идти речь? Хват, как и большинство его коллег, их просто не знал. По причине отсутствия какого-либо, самого минимального юридического ликбеза.
Я спрашивала Хвата: «А как же вы работали?» — «Насколько разумел, так и вел дела», — последовал ответ. «Насколько разумел…»
Если дело направлялось на особое совещание, этот суррогат суда, созданный при народном комиссаре внутренних дел постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года,{15} то именно следователь предлагал меру наказания, с которой, как правило, особое совещание соглашалось. А мерой этой могло быть все что угодно — вплоть до расстрела…{16}
Ну, а если бы и знал Хват законы — что с того? «…Бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону». Это сказал не кто-нибудь, не просто партийный чиновник — Прокурор СССР Андрей Вышинский, то есть верховное лицо страны, надзирающее за исполнением закона.{17}
И законы были отложены в сторону. Начался беспредел. То же «особое совещание», куда, согласно директиве Прокуратуры СССР от 1935 года, направлялись дела, по которым нет достаточных документальных данных для рассмотрения в судах (выделено мною — Е.А.),{18} судило без заседателей, без вызова свидетелей, без заключения прокурора без права защиты и — нередко — без самого обвиняемого.
Справедливости ради надо сказать, что, принимая Положение об Особом совещании при НКВД СССР, большевики не были оригинальны: они в полной мере использовали опыт царского правительства, в тюрьмах которого сидели и которое свергли в семнадцатом году. А именно: скопировали «Правила о порядке действия чинов корпуса жандармов по исследованию преступлений от 19 мая 1871 года» и Приложение от 14 августа 1881 года, принятые при царе Александре III. В этих правилах министру внутренних дел предоставлялось право карать арестованных в случаях, если: а) не нашлось явных признаков и достаточных следов преступления; б) совершены деяния, … за которые еще не вошла в Уложение о наказаниях или кои вовсе не упомянуты в законе; в) уличающие сведения добыты секретным путем и не могут быть подтверждены фактически. «В итоге жандармы имели право, — пишет в своей книге «Без грифа «секретно» генерал-майор юстиции Борис Викторов, — арестовывать любое лицо без каких-либо доказательств его виновности, за деяние не признанное законом в качестве преступления, и на основании не подлежащих проверке сведений». Позже, уже после первой русской революции 1905 года, в ход были пущены и столыпинские военные трибуналы, судившие без участия сторон… Ах, Россия — что за страна? Ничто дурное в ней не кончается, хорошее — обрубается, да так, чтобы не взросло, дурное — всегда имеет свои предтечи и свое продолжение…
Однако правда и то, что во времена царского самодержавия подобное беззаконие дозволялось подвергать публичному остракизму и критике. Тот же Викторов в своей книге приводит слова присяжного поверенного В. Н. Новикова, выступившего в защиту подсудимых на процессе по делу Петербургской группы РСДРП (напомню, РСДРП — предшественница партии большевиков) — так называемый «Процесс 44-х», состоявшийся в Петербурге в 1906 году. Новиков говорил: «Господа судьи! Ведь это не новый факт, что жандармское дознание, хотя бы и произведенное в порядке Устава уголовного судопроизводства, не обладает достоверностью и что наша политическая полиция не стоит на высоте своего назначения, и дознания, проводимые ею, не имеют никакой цены. Почти на каждой странице обвинительного акта имеется фраза: «по полученным охранным отделением сведениям», «до сведения охранного отделения дошло». Что это за фразы? Что это за сведения?»
Могу себе представить, что было бы с советским судьей или адвокатом времен сталинской поры, если бы он позволил себе сказать подобное, заменив лишь слова «охранное отделение» на НКВД, «по полученным НКВД сведениям», «Управление НКВД располагает данными», — а ведь именно с этого начиналось каждое или почти каждое обвинительное заключение, составленное следователями НКВД… Впрочем, что значит «могу себе представить»? Знаю. Знаю, что было с адвокатами, посмевшими защищать арестованных. Один лишь пример. В марте 1939 года в Северной Осетии прошел процесс по так называемому «молодежному делу» — очередная и обыденная фальсификация, по которой были расстреляны лидеры тамошнего комсомола. Так вот адвокат Ясинский на суде пытался доказать, что к его подзащитному применялись незаконные методы следствия. Это был, конечно, акт гражданского мужества и гражданского же отчаяния — подзащитный Ясинского был расстрелян. Сам же адвокат был арестован уже на следующий день после окончания процесса, осужден за клевету и умер в лагере.{20}
В послесталинские времена адвокатов не убивали. Их либо исключали из Коллегии адвокатов и тем лишали адвокатской практики, как было с Софьей Калистратовой, защищавшей генерала-диссидента Петра Григоренко, или с Борисом Золотухиным — адвокатом известного правозащитника Александра Гинзбурга; либо — принуждали уехать из страны, как было с Диной Каминской, защищавшей «инакомыслящих» — Владимира Буковского, Анатолия Марченко, Юрия Галанского и многих других{21}.
Если же имярек обвинялся в участии в «террористическом акте или террористической организации», то он лишался права и на кассационное обжалование приговора, и на подачу ходатайства о помиловании. Приговор к высшей мере наказания, то есть к расстрелу, приводился в исполнение немедленно по его вынесении.{22}
Так, например, маршал Тухачевский вместе с «подельниками» — другими крупными чинами Красной Армии, услышал свой приговор 11 июня 1937 года. 12 июня все они были расстреляны.
А ведь кроме особого совещания в стране вплоть до сентября 1953 года[22], сменяя друг друга или действуя одновременно, «трудились» различные спецколлегии, «тройки», «двойки», специальные присутствия. Только за один день 18 октября 1937 года и только одна «двойка» в составе Прокурора СССР А. Вышинского и наркома НКВД Н. Ежова «рассмотрела» материалы в отношении 551 человека и всех их приговорила к расстрелу.{23} Таковы были «законы», в полном согласии с которыми работал Хват.
Ну и, наконец, собственные нравственные барьеры — они-то должны быть? Ведь мать родила Хвата, мать — не волчица. И дед с бабкой — люди очень набожные — у него были. И в церковь ходил, и Закон Божий в школе изучал. Крестьянские семьи в России, из коей происходил Хват, вообще были богобоязненны. Что-то, на донышке, под всеми его «университетами» должно было остаться? Должно. Но, видно, задел был слишком мал.
Хвату было семь лет, когда разразилась первая мировая война. Десять — когда случилась революция. Когда брат пошел на брата, а сын — на отца. Когда в жизнь вошли революционные военные трибуналы, принимавшие решения так, «как это подсказывало им революционное коммунистическое правосознание и революционная совесть»: законы царской России были отменены. Хвату было одиннадцать, когда началась Гражданская война, когда виселицами по России прошелся белый террор и был объявлен террор красный.