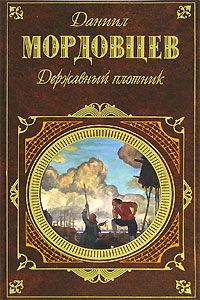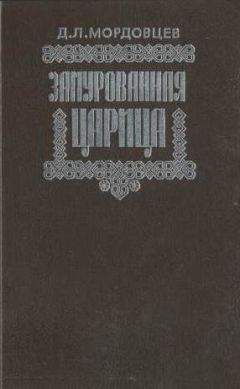Над Дашковой, наконец, просто издеваются: в драматической пословице – «За мухой с обухом», принадлежащей перу самой императрицы, Дашкова осмеивается в лице сварливой бабы Постреловой[4].
И вдруг теперь у нее отбирают апартаменты в Зимнем Дворце, которые она все время занимала в качестве статс-дамы, и отдают Анне Никитишне Нарышкиной. В «Двевнике» Храповицкого об этом так записано под 19 мая 1788 года: «Выведен (из Зимнего Дворца) совет, чтобы очистить комнаты Анне Никитишне Нарышкиной, но так расположено, чтобы не было комнат для княгини Дашковой. «С одной хочу проводить время, а с другой нет; они же и в ссоре за клок земли» (слова императрицы курсивом)[5].
– Дашкова с Александром Александровичем Нарышкиным (мужем этой Анны Никитишны) в такой ссоре, что, сидя рядом, оборачиваются друг от друга и составляют двуглавого орла, – сострила императрица. – Ссора за пять сажен земли[6].
Наш настоящий рассказ и застает княгиню Дашкову в разговоре с императрицей о щекотливом для первой вопросе – о благовидном удалении ее из Зимнего Дворца. На этом разговоре и застает их Лев Александрович Нарышкин, обер-шталмейстер императрицы и личный, самый преданный из ее старых друзей, попросту – «повеса Левушка» или «шпынь». Дашкова и с ним находилась в ссоре по поводу того, что в издававшемся тогда при академии под ее редакцией журнале Фонвизину знаменитый автор «Недоросля», позволил себе весьма злую шутку насчет Нарышкина: очень прозрачно намекая на него, Фонвизин писал, что в старину шуты и шпыни придворные были просто шутами, а теперь эти же шуты, ничего не делая, занимают очень высокие должности при дворе.
Понятно, что едва Нарышкин появился на балконе, как Дашкова тотчас же откланялась императрице и удалилась. Нарышкин сделал неуловимую гримасу.
– Ты все тот же повеса, – улыбнулась государыня.
– Тот же, матушка царица, и потому желал бы на первой осине повесить твоего супостата! Шутка ли! За эти дни, государыня, ты успела даже с лица спасть.
– Как не спасть, мой друг! Столько забот, такая альтерация – и за всем надо самой присмотреть. Думается мне: буде дело пойдет на негоциацию, то, может быть, он, Густав, захочет, чтобы я признала его самодержавным королем. Вчера всю ночь не выходило из головы, что он может вздумать атаковать Кронштадт, ибо надобно сообразоваться с его безумием, чтобы предузнать его намерения.
– Ах, государыня матушка, и не с такими супостатами приходилось тебе иметь дело, и всех-то ты превозмогла: не ему чета был Фридрих II.
– Да тот, Левушка, был умен, а этот – дурак! – проговорила императрица, ударив рукой по бумагам, лежавшим против нее на столе. – И вот мне пришло обдумывать и дурачества его, дабы на всяком пункте он разбил себе лоб.
– И разобьет, матушка, всенепременно.
– Вот и император Иосиф пишет мне, что хотя много видал дураков, но не знавал такого, который бы других считал себя глупее.
– Оно так именно, матушка, и бывает: дурак всех считает глупыми, а только себя умнейшим.
– Так-то так, мой друг, – а он, все-таки, хитрите: мне пишут из Стокгольма, что он, Густав, обвиняет меня в том, будто бы я возмущаю против него его подданных, и за то, что я в своей ноте сделала, яко бы, различие между королем и нацией, приказывает моему резиденту, графу Разумовскому, выехать из Стокгольма в восемь дней, а мне хочет писать уже из Финляндии, куда и выехал к войску.
– И отлично! Пусть идет разбивать себе лоб, – махнул рукой Нарышкин. – А у нас, матушка, на плечах теперь более серьезная негоциация.
– Какая же? – улыбнулась императрица, вперед догадываясь, что ее испытанный друг, Левушка, для того, чтобы несколько отвлечь ее от государственных забот и треволнений, наверное, задумал какую-нибудь шалость.
– Да как же государыня, – серьезно отвечал Нарышкин: – у нас под боком разгорается жестокая война между Монтекки и Капулетти.
– Это между Дашковой и твоим братом из-за клочка земли?
– Точно, государыня, между ними; но только теперь на сцену выступают Ромео к Джульетта.
– Это кто же? – как бы машинально спросила императрица.
– Да вот что, матушка: брат мой выписал из Голландии пару превосходных свиней – борова и свинью. Так этот боров, которому брат и дал кличку Ромео, чувствуя холодность к своей подруге, стал махаться со свинкой, принадлежащей княгине Дашковой, и для свидания с ней пробирается в сад Дашковой, где иногда и дают сюрпризом вокальные дуэты эти новые Ромео и Юлия. А дачи их, сама знаешь, матушка, по соседству – сад к саду. Ну, и быть беде. Уже раз княгиня прислала брату словесную ноту – чтобы держал борова взаперти.
А этот голландец, матушка, любит свободу, – не то, что у нас – Ромео не выносит хлева, и визжит, точно его режут. Ну, брат и не велит его запирать, – а он сейчас же и к Джульетте[7].
Но Нарышкину не удалось развлечь императрицу. В дверях показался граф Безбородко с бумагами в руках.
– С манифестом? – спросила государыня, отвечая на низкий поклон графа.
– С манифестом, ваше величество, – отвечал пришедший, подавая папку с бумагой.
Императрица взяла папку, развернула ее, внимательно прочла манифест, объявлявший войну Швеции, и три раза набожно перекрестившись, твердой рукой подписала его.
– Быть по сему! – как бы про себя сказала она: – на начинающего Бог.
Дачи двух враждовавших при дворе Екатерины II высокопоставленных особ, статс-дамы княгини Дашковой и обер-шенка Александра Нарышкина, действительно, находились бок-о-бок, около Царского Села, собственно в Софиевке. Они разделялись довольно высоким забором, который, кроме того, с обеих сторон густо окаймляли кусты бузины и сирени.
В ночь, следовавшую за подписанием манифеста о войне со Швецией, 30-го июня 1788 года, в Царском Селе и на дачах вельмож, ютившихся около царской летней резиденции, было необыкновенно тихо. Императрица, вслед за подписанием манифеста, тотчас уехала в Петербург, чтобы отслужить молебен в Петропавловском соборе, а за ней последовал в город весь двор и все вельможи, жившие по своим дачам в Царском и в его окрестностях. Все стремилось в Петербург потому еще более, что после молебна наследник цесаревич Павел Петрович должен был отправляться в Финляндию с кирасирским имени его высочества полком.
Тревожное состояние двора немедленно передалось всему населению Петербурга и его окрестностей, особенно, когда стало известно, какие дерзкие требования предъявлял шведский король: он требовал, чтобы Россия возвратила ему Финляндию, чтобы недавно завоеванный Крымский полуостров отдан был опять султану и т. д.; напоминал даже Пугачева, на что императрица, читая его, высокомерную ноту, с улыбкой заметила приближенным:
– Il cite son confrere Pouhaschoff.
Как бы то ни было, но в ночь на 1 июля 1788 года Царское и соседние дачи заметно опустели. А известно, что когда хозяев нет дома, то мыши свободно по столам разгуливают, а когда господ нет дома, то прислуга господствует.
Так было и теперь. Несмотря на непримиримую вражду соседних дач – Дашковой и Нарышкиных, вместе с императрицею уехавших в город, в ночь на 1-е июля заметны были дружеские, хотя тайные, сношения между этими враждующими дачами. Так как летние петербургские ночи очень прозрачны, то и видно было, как около 12-ти часов ночи к бузиновым и сиреневым кустам, разделявшим вместе с забором обе дачи, с той и другой стороны, прокрадывались две человеческие фигуры – от Нарышкиных мужская, от Дашковой – женская. Скоро мужская фигура, непонятно каким чудом, очутилась по эту сторону забора, под сиреневым кустом, росшим в саду Дашковой. Под этим же развесистым кустом мелькало уже и женское платье.
– Здравствуй, Пашенька, – послышался мужской шепот.
– Здравствуйте, Егорушка, – робко отвечал шепот женский. Последовавшие затем несколько мгновений абсолютной тишины под сиреневым кустом дают повод подозревать, что Егорушка и Пашенька целовались. Ну, и пускай их!
– А я сегодня уж третий раз прихожу сюда, а тебя все не было, – прошептал мужской голос.
– Боялась я, Егорушка, – отвечал женский.
– Чего же, Паша, – вить, господа все в городе.
На это не последовало никакого ответа, только в Царскосельском парке послышались задорные пощелкивания соловья.
– А – Паша, чего же ты опасалась? – повторил мужской голос.
– Эх, Егорушка, мне бы и вовсе не след ходить сюда.
– Отчего же? Разве ты меня не любишь?
– Нет, Егор Петрович, вы сами знаете, что я люблю вас; только моя барыня никогда не согласится отдать меня за вас замуж. Сами знаете, что моя княгиня на вашего барина и на барыню адом дышит. А сегодня воротилась из дворца как полоумная какая, и ваших господ на чем свет лаяла: досталось и барыне, а особливо Льву Александрычу – и наушник-то он государыни, и шпынь, и передатчик. Опосля, когда я ей волосы причесывала к выезду, стала плакать: говорить, будто ваши господа и с государыней ее нарочно поссорили, что государыня не хочет ее и в Зимнем Дворце около себя видеть, и наши комнаты во дворце под вашу барыню отдает. Сами теперь посудите, Егор Петрович, как я сунусь к ней после этого с моим делом? Ежели бы вы были не Нарышкиных господ, тогда другое дело: княгиня меня не то, что любят, а просто балуют; я у них хожу, сами видите, как куколка, всегда разряженная, и ни в чем мне запрету нет. А тут – что и говорить! – я, кажись, готова руки на себя наложить – зачем я вас полюбила!