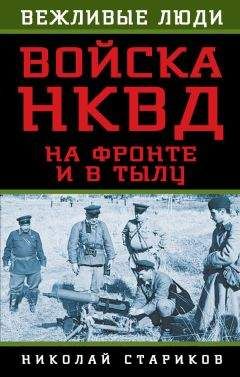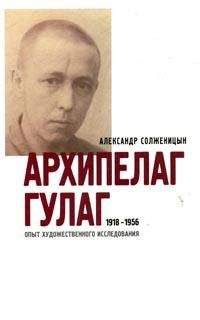Иными доносчиками двигало неутоленное чувство мести. Они хотели только одного – во что бы то ни стало отомстить за обиду. Доносчики были движимы и тем, что можно назвать «любовью» к доносам, неистребимым желанием делать зло ближнему. Такие люди просто искали случай «стукнуть». Доносчик Дмитрий Салтанов на следствии 1723 года уже по второму его ложному извету «о себе говорил, что-де мне делать, когда моя такая совесть злая, что обык напрасно невинных губить».
Но доносчиком становились не только раб, рвущий свои оковы, несчастная жена, обманутый муж, стяжатель, человеконенавистник, злодей, запуганный следствием человек. Доносчик – это еще и энтузиаст, искренне верящий в пользу своего доноса, убежденный, что так он спасает Отечество. Особо знаменит тобольский казак Григорий Левшутин – по словам П. К. Щебальского, «человек истинно необыкновенный, тип, к чести нашего времени (писано в 1861 г. – Е. А.), кажется, уже несуществующий. Мы знаем, что были на Руси люди, официально занимавшиеся доносами, мы видели доносчиков-дилетантов, но Григорий Левшутин всю жизнь свою посвятил, всю душу положил на это дело. С чутьем дикого зверя он отыскивал свою жертву, с искусством мелодраматического героя опутывал ее, выносил истязания со стоицизмом фанатика, поддерживая свои изветы, едва окончив дело, начинал новое, полжизни провел в кандалах и на предсмертной своей исповеди подтвердил обвинение против одной из многочисленных своих жертв». Левшутин сам, по доброй воле ходил по тюрьмам и острогам, заводил беседы с арестантами, выспрашивал у них подробности, а потом доносил. В 1721 году он выкупил себе место конвоира партии арестантов. В итоге этой «экспедиции» он сумел подвести под суд всю губернскую канцелярию в Нижнем Новгороде.
Головной болью для сибирской администрации середины XVIII века был Иван Турченинов. Он, еврей Карл Левий, турецкоподданный, был взят в плен под Очаковом и сослан на Камчатку за шпионаж. Там перейдя в православие, он прижился в Сибири и стал одним из самых знаменитых доносчиков XVIII века. Он донес на всю сибирскую администрацию во главе с губернатором, убедительно вскрыл все «жульства» и чудовищные злоупотребления сибирских чиновников. За свои труды он удостоился чина поручика и награды в 200 рублей. Специальная комиссия разбирала доносы Турченинова на сибирскую администрацию двадцать лет!
Отношение людей к доносительству было неоднозначным. Несмотря на полное одобрение и поощрение изветчика со стороны государства, несмотря на то что, донося, люди поступали как «верные сыны отечества», червь сомнения точил их души. Они понимали безнравственность доноса, его явное несоответствие нормам христианской морали, хорошо осознавали неизбежное противоречие между долгом, требовавшим во имя высших государственных целей донести на ближнего, и христианскими заповедями, устойчивым представлением о том, что доносчик – это Иуда, предатель, которому нет прощения.
Бывший фельдмаршал Б. X. Миних в 1744 году писал канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину из пелымской ссылки, что в 1730 году, при вступлении Анны Иоанновны на престол, он как главнокомандующий Петербурга «по должности… донесть принужден был» на адмирала П. И. Сиверса. Миних признавал, что донос его погубил жизнь адмирала, которого сослали на 10 лет, и только перед самой смертью он был возвращен из ссылки. Теперь, почти 15 лет спустя после извета, доносчик, сам оказавшись в ссылке, писал: «И потому, ежели Ея в. наша великодушнейшая императрица соизволила б Сиверсовым детям некоторые действительные милости щедрейше явить, то оное бы и к успокоению моей совести служило».
Конечно, доносительство не числилось в кодексе дворянина, и внедряемые Петром I принципы дворянской морали оказывались в очевидном противоречии с обязанностью российского служилого человека и «государева холопа» непременно донести на ближнего. Как известно, в 1730 году, сразу же после восшествия на престол Анны Иоанновны, была предпринята попытка ограничения самодержавной власти. Казанский губернатор А. П. Волынский написал своему дяде С. А. Салтыкову письмо в Москву. В нем он сообщал, что приехавший из Москвы в Казань бригадир Иван Козлов весьма одобрял попытку ограничить власть императрицы Анны и очень огорчился, когда узнал, что замысел этот не удался. Салтыков, приходившийся родственником новой императрице и быстро набравший при ней силу, попросил племянника прислать на имя государыни официальный донос на Козлова. Оказалось, что Салтыков уже сообщил об этой истории самой императрице. Для того чтобы дело о «непристойных словах» могло начаться, требовался только донос. Но Волынский неожиданно заупрямился. Он отвечал дяде, что готов служить государыне по своей должности, но «понеже ни дед мой, ни отец никогда в доносчиках и в доносителях не бывали, а мне как с тем на свет глаза мои показать?., я… большую половину века моего прожил так честно, как всякому доброму человеку надлежало, и тем нажил нынешнюю честь мою, и для того лутче с нею хочу умереть… нежели последний мой век доживать мне в пакостном и поносном звании, в доносчиках…».
По этому письму Волынского мы можем судить об отношении к доносительству как людей вообще, так и, в частности, нового русского дворянина с его представлениями о личной дворянской чести, заимствованными из Западной Европы при Петре I и уже довольно глубоко вкоренившимися в сознание вчерашних «государевых холопей». Одним словом, Волынский хочет сказать: доносить – неприлично, это противоречит нормам христианской и дворянской чести. Так действительно думали многие люди. П. И. Мусин-Пушкин, проходивший по делу самого Артемия Волынского в 1740 году, был уличен в недоносительстве на своего приятеля Волынского и на допросе в Тайной канцелярии отважно заявил: «Не хотел быть доводчиком».
Но в истории самого Волынского лучше не спешить с выводами. Столь высоконравственная, на первый взгляд, позиция племянника очень не понравилась его высокопоставленному дяде, который, поспешив с письмом Волынского к императрице, попал в итоге впросак. Поэтому дядя требует довести дело до конца:
«…коли вступили, надобно к окончанию привесть». Моральных же сомнений племянника и рассуждений насчет дворянской чести дядя не понял, счел их за отговорки. Из ответа Волынского на дядино письмо видно, что казанского губернатора от доноса удерживали не понятия чести, а банальные соображения трусливого царедворца и карьериста, который в принципе не прочь сообщить при случае куда надлежит, но при этом не хочет подавать официальный донос и нести за него ответственность. Волынский не отрекается от своих обвинений, но желает, чтобы его донос рассматривали «только приватно, а не публично». То есть донести я всегда, мол, рад, но только тайно, публичный же, по закону, донос противоречит дворянской чести.
В другом письме Волынский раскрыл последний и, вероятно, самый серьезный аргумент в защиту своего недоносительства. Когда началась вся история с Козловым, в Казани об ошеломляющих событиях в Москве после смерти Петра II знали явно недостаточно, и, отказываясь посылать новой государыне формальный донос, Волынский в тот момент не был уверен, что группировка Анны Иоанновны достигла полной победы, («…донесть имел к тому немалый резон, но понеже и тогда еще дело на балансе (т. е. неустойчиво. – Е. А.) было, для того боялся так смело поступать, чтоб мне за то самому не пропасть»). Когда же через некоторое время стало известно об окончательной победе Анны Иоанновны, то казанский губернатор уже пожалел о своей чрезмерной осторожности.
Как видим, честь дворянская по Волынскому – понятие гибкое: в одном случае она вообще не допускает доноса, в другом – она его допускает, но лишь тайно или только тогда, когда извет не несет опасности для доносчика-дворянина. Дядя же Волынского исходил из представлений о чести, которые диктовалась не абстрактными нормами дворянского поведения, а законами Российской империи. Они же говорили яснее ясного: доносить необходимо, этого требует безопасность государства, долг подданного. Этой идеей пронизаны все законодательство и вся сыскная практика.
К мукам человека, который, услышав «непристойные слова», колебался: «Донести или нет?» – присоединялось чувство страха при мысли о неизбежных при разбирательстве его доноса допросах и пытках. Каждый донос был сопряжен с огромным риском. Опытный, хитрый доносчик никогда не забывал, что после извета ему нужно еще доказать обвинение, «довести» его с помощью показаний свидетелей. Многие изветчики не представляли, как трудно это сделать. Только хладнокровные и «пронырливые» люди умели в нужном месте «подстелить соломки».
В 1702 году в Нежине капитан Маркел Ширяев донес на старца Германа. Оказалось, что как-то раз Герман обратился к капитану на базаре с «непристойными словами» о Петре I, даже увел офицера в укромный уголок, где описал весь ужас положения России, которой управляет «подмененный царь» – немец. Вместо того чтобы кричать «Караул!», хватать Германа (разговор был один на один) и тащить на съезжую, а потом сидеть в тюрьме и «перепытываться» с фанатичным старцем, Ширяев пошел иным путем. Он притворился, что увлечен словами проповедника, узнал его адрес и на другой день пришел к Герману в гости. Он вызвал старца на улицу, а пока они прогуливались, двое солдат – подчиненных Ширяева – незаметно пробрались в дом старца и спрятались за печкой. Когда хозяин и гость вошли в избу, то Ширяев, якобы для того чтобы «взять в розум» сказанное старцем на базаре, попросил того повторить «непристойные слова». Сделано это было исключительно для ушей запечных свидетелей. И только после этой операции Ширяев донес на старца «куда надлежит».