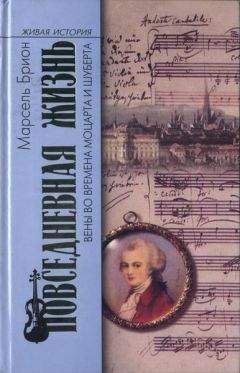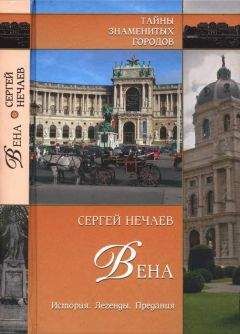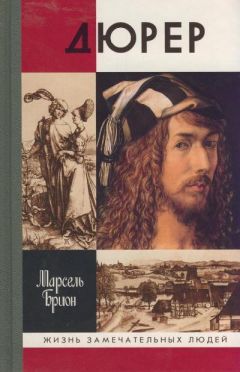С Веной не произошло ничего подобного: музыка укоренилась в самом сердце города. Она регулирует его пульс, проникает в самые скромные дома и в самые дальние улочки предместий. В принципе то же самое можно сказать почти обо всех городах Германии и Австрии. Нет ни одного германского городка, каким бы крохотным он ни был, где, гуляя вечером после того, как уляжется шум городского движения, вы не услышали бы льющихся из какого-нибудь открытого окна звуков трио Гайдна или квартета Моцарта, а то и септета Бетховена в не слишком точном исполнении собравшихся за одними и теми же пюпитрами родителей и детей, одержимых общей страстью. Речь идет именно о страсти; я прекрасно понимаю, что в венских домах какая-нибудь сведенная до исполнения в четыре руки симфония далеко не всегда звучала безупречно, что, играя иную сонату, фортепьяно и скрипка вдруг выдыхались, силясь не расползтись в разные стороны к концу страницы партитуры; понимаю, что несчастные бродячие музыканты часто уродовали шедевры своими дрянными скрипками, но случалось также — стоит лишь вспомнить прекрасную повесть Грильпарцера Бедный музыкант, — что это были если и не виртуозы в полном смысле слова, то, во всяком случае, вполне приличные скрипачи и хорошие флейтисты, которым не удалось получить место в каком-нибудь оркестре (поскольку как бы много ни было таких оркестров, соискателей вакантных мест было неизмеримо больше), и они, подобно герою Грильпарцера, предпочитали такое существование, полное опасностей, неудобств и неуверенности в завтрашнем дне, городскому комфорту, надежности твердого жалованья, наконец, банальной скуке монотонной, размеренной жизни.[42]
Если задаться вопросом о том, какой из многочисленных жанров музыки предпочитали венцы, а жанров этих было много — от жалобных вздохов шарманки до восхитительного совершенства Придворной капеллы, — то надо сказать, что венцы одинаково любили их все. И действительно, оркестр, под который вальсировали сотни пар под люстрами зала Аполлон, освещенного как волшебный дворец, был для венцев столь же необходим, как и трио духовых инструментов в беседках гринцингского ресторанчика, где они потягивали молодое вино. Не менее необходимыми были и большие утренние концерты в Аугартене, и любая партитура, которую пытались освоить родители с детьми, достав из футляров инструменты, едва хозяйка успевала убрать со стола посуду после ужина.
Все это было одинаково необходимо, и в этом все дело. В разные часы дня, при разных жизненных обстоятельствах была нужна своя, особая музыка. Был необходим и шагавший впереди блистательных полков военный оркестр в китайских шапках с разноцветными султанами и с позванивавшими колокольчиками, сверкавший украшенными инициалами императора серебряными литаврами, которые несла на себе белая лошадь, гарцевавшая в такт марша, и большой денежный ящик пехотного полка, ехавший за тромбонами и тубами на небольшой повозке, влекомой своенравным прелестным пони, — все это очаровывало и простой народ, и утонченную публику, так как под партитурами военных маршей часто стояли подписи великих музыкантов. Подобно церковной, военная музыка имеет свое назначение; она располагает собственными средствами эмоционального воздействия, как, впрочем, и кабацкая музыка, добавил бы я, если бы не побоялся прослыть неуважительным. Поскольку в Вене XVIII века была только хорошая музыка, венцы никогда не искали удовольствия в вульгарных, грубо чувственных песнях, и объяснялось это той простой причиной, что венскую музыку, идет ли речь о Моцарте, Шуберте, Даннере или Штраусе, никогда не переставал питать народный источник.
В ходе всей истории Вены и ее музыки никогда не было проблемы разрыва, который, за редкими исключениями, всегда образуется между народом и тем «утонченным» обществом, которое называет себя элитой. В некоторых странах этот разрыв оказался необратимым, так как музыкальные антрепренеры, призванные поддерживать запросы народа, фактически унижали его и пренебрегали его запросами под тем предлогом, что «массам и так хорошо». В свою очередь элита меломанов замыкалась в своем кругу, ограничиваясь узким кругом приобщенных к искусству, создавая у редких слушателей, получавших доступ на концерты, утешительное ощущение принадлежности к избранным.
В Вене ничего подобного не было никогда. Здесь не было места артистическому снобизму, как, впрочем, и снобизму светскому. Да о нем и речи не могло идти в интересующую нас счастливую для города эпоху, когда Вена весело жила под легким скипетром своих императоров; снобизм же создали демократии, а воспользовалась им буржуазия, выставлявшая его вместо недостающих дворянских титулов. Любой князь держится безупречно просто, он доступен всем и любезен со всеми; крупный вельможа отвергает снобизм, воздвигающий произвольные, искусственные стены между различными слоями общества. Совершенно неоспоримо, что именно музыка явилась одним из факторов объединения в однородное целое так называемого «венского народа», и в это целое на равных вошли и члены императорской семьи, и ремесленники из предместий. Девушки-белошвейки и молодые приказчики отправлялись вальсировать во дворец; эрцгерцоги, более или менее инкогнито, садились за столик в ресторанчиках Венского леса, а когда приходило время оплатить счет, им не оставалось ничего другого, как признаться, что у них нет денег, поскольку Их Высочествам, даже не имеющим представления о том, что такое кошелек, не доводилось носить в карманах монеты, — и люди видели в этом подлинную демократию, в основе которой лежали взаимная симпатия и доверие, а вовсе не зависть, ненависть или страх.
Наконец, приходится констатировать как единственный в своем роде феномен, что в Вене той поры, в противоположность другим европейским городам, «плохой музыки» вообще не было. Музыка была более или менее утонченной, более или менее сложной, более или менее понятной даже тем, кто не умел ни играть ни на одном инструменте, ни разбираться в партитуре — хотя таких в Вене было немного, — но это всегда была хорошая музыка. Видимо, если музыка популярна и в особенности если ее можно назвать народной, она хороша всегда. Музыка становится плохой тогда, когда ее фабрикуют в вульгарно-претенциозном духе, когда она навязывает народу что-то противоречащее его истинным вкусам. Посмотрите, с какой непосредственностью и гармоничным совершенством сложная и народная музыка соединяются в творчестве таких типично австрийских композиторов, как Моцарт и Шуберт. Они доступны всем, потому что говорят на языке души, а душа-то у всех одна и та же; и если появляются несколько Моцартов, несколько Шубертов, по мере того как слушатель становится в той или иной мере музыкантом, человеком, способным раскрыть для себя и понять мысли гения, знатоки и масса любителей музыки инстинктивно также объединяются и слушают их, ощущая глубокое единство.
Объединяющая роль музыкиНет ничего парадоксального в утверждении, что в эпоху, когда двор все еще жил по правилам самого строгого, удушливого церемониала испанской традиции, в Вене, где простой народ больше чем где бы то ни было добродушен, скромен и приобщен к культуре, но чувствителен к любому посягательству на свою независимость, а в некоторых обстоятельствах и склонен к фрондерству, музыка в еще большей степени, нежели приверженность габсбургской монархии и императорской фамилии, и в гораздо большей степени, нежели верность династическому принципу, служила главным фактором объединения венцев в общественной и политической жизни.
Если мы на минуту отвлечемся от занимающей нас середины века и перенесемся в современную эпоху, то вспомним, что открытие Венской Оперы, разрушенной вместе с большей частью этого очаровательного города, непоправимо изуродованного во время войны 1939–1945 годов, стало настоящим национальным праздником, торжественным и счастливым событием, в котором участвовали решительно все, как если бы это был семейный праздник, как если бы Опера была гарантией для всех венцев, а ее восстановление — залогом эры процветания, мира и радости. Я уверен, что вне пределов германских государств такое просто невозможно, за исключением, может быть, Милана с его оперным театром Ла Скала… Улицы были заполнены толпами набожно сосредоточенных, до слез взволнованных людей, истово причащавшихся любви к своему городу и музыке, слушая Фиделио: музыка разливалась из динамиков по ярко освещенным улицам Вены, превратившейся в тот вечер в огромный музыкальный зал. В толпе наверняка были люди, которые ни разу не бывали в Опере и, возможно, никогда туда не пойдут, но и они были твердо уверены в том, что это их Опера, так как это был храм музыки, подобно тому, как собор Св. Стефана — это храм религии; ведь даже те венцы, которые не ходят к обедне, считают собор Св. Стефана, эту древнюю колыбель венского христианства, своим, как если бы они ежедневно ходили туда к заутрене и вечерне.