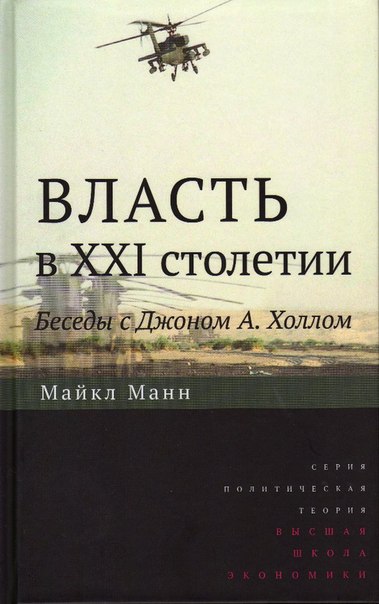увеличение доходов (Иоанн, Эдуард III, Генриху и т. д.), удалось его добиться в результате военного давления. Но большая часть роста доходов монархов исчислялась в текущих ценах, и, следовательно, большая часть политической борьбы практически всех монархов проистекали из инфляционного давления. Рост государств был результатом не столько осознанных усилий власти, сколько отчаянных поисков временных решений для предотвращения фискальной катастрофы. Источником этой угрозы были не столько преднамеренные действия конкурирующей державы, сколько непредвиденные последствия европейской экономической и военной деятельности в целом [117]. Аналогичным образом не было и большого сдвига во власти между государственными элитами и доминировавшими группами «гражданского общества». Внутренняя власть государства все еще была слабой.
Во-вторых, конфликт между королем и его подданными не был единственной или хотя бы основной формой социального конфликта в рамках этого периода. Довольно обособленно от конфликта между государствами существовали насильственные конфликты между классами и прочими группами «гражданского общества», которые не были систематически направлены на государство или даже на борьбу за его земли. Подобный конфликт обычно принимал религиозную форму. Конфликты между королями, императорами и папами, борьба против ересей, например Альбигойский крестовый поход против катаров или Гуситские войны, а также крестьянские и региональные бунты вплоть до Благодатного паломничества 1534 г., смешивали различное недовольство и различные территориальные организации под религиозными лозунгами. Разгадать мотивы участников трудно, ясно лишь одно: поздняя средневековая Европа все еще поддерживала формы организованной борьбы, включая классовую борьбу, которые не имели никакого систематического отношения ни к акторам власти, ни к территориальным единицам. Эти формы были в большинстве своем религиозными, так как христианская церковь все еще обеспечивала существенную долю интеграции (а следовательно, и дезинтеграции) в Европе. Хотя мы с трудом можем выделить особенности различных форм борьбы за власть, политика, осуществляемая на уровне развития территориального государства, была, вероятно, менее значимой для большей части населения по сравнению с политикой их локальности (базирующейся на обычаях и манориальных судах) и транснациональной политикой церкви (а также церкви против государства). Насколько мы можем вообще говорить о «классовой борьбе» в этот период, она разрешалась без какого-либо значимого государственного регулирования: государство могло быть фактором социальной сплоченности, но оно едва ли было основным ее фактором, по определению Пуланзаса (Poulantzas 19712).
Поэтому восстания крестьян и горожан, какими бы частыми они ни были, не могли превратиться в революцию. Государство не было ни основным, фактором социальной сплоченности, ни основным эксплуататором, ни решением проблемы эксплуатации. Иногда крестьяне и горожане определяли в этих терминах церковь и потому имели основания на трансформацию церкви революционными средствами, заменяя ее (по крайней мере в собственной области) более «примитивными», священническими общинами правоверных. Но они смотрели на государство как на средневековую роль судебного арбитра, который мог возместить обиды, причиненные другими, и восстановить справедливые обычаи и привилегии. Даже если король был отчасти виновен в их эксплуатации, бунтовщики часто приписывали это «злу» «иностранных» советников, которые не знали местных обычаев. Во многих случаях крестьяне и горожане в момент победы восстания доверялись своему князю, за что расплачивались смертью, увечьями и дальнейшей эксплуатацией. Почему они не учились на собственных ошибках? Дело в том, что подобные бунты случались в одной области только однажды в течение пятидесяти или ста лет, а также в промежутках между менее рутинной деятельностью (отличной от удовлетворения недовольства или приготовлений к войне), фокусировавшей внимание народа на государстве. Ни современного государства, ни современных революций еще не было.
Тем не менее на протяжении этого периоду происходили изменения. Один из импульсов, вызвавших их, порожден экономическим ростом. Во все большей мере излишки поместий и деревень обменивались на потребительские товары, произведенные в других областях. Начиная с XI в. некоторые области стали доминирующими в производстве отдельных товаров: вина, зерна, шерсти или готовых изделий, таких как сукно. У нас нет точных данных о торговле, но мы можем предположить, что это расширение вначале увеличило торговлю товарами роскоши на большие расстояния, а не обмен в рамках средних расстояний. Это усилило транснациональную солидарность собственников и потребителей этих товаров — землевладельцев и городских жителей. Однако в какой-то момент рост сдвинулся по направлению к развитию отношений обмена внутри государственных границ, чему способствовало не только увеличение общего спроса, но и натурализация купцов. Еще слишком рано говорить о национальных рынках, но в XIV и XV вв. в ряде основных государств могло быть определено территориальное ядро (Лондон и графства, его окружающие, область вокруг Парижа, Старая Кастилия), где диалектически развивались крепнувшие узы экономической взаимозависимости и протонацио-налистическая культура (Kiernan 1965: 32). По большей части именно в этих регионах возникали движения, обладавшие определенной степенью коллективной классовой организации и сознания, каким было крестьянское восстание 1381 г. Классовое и национальное сознание далеки от того, чтобы быть противоположными — каждое является необходимым условием для существования другого.
Подобные изменения происходили и в религии. Вплоть до XVII в. недовольство, выраженное в религиозных терминах, было важнейшим в социальной борьбе, тем не менее оно принимало все более национальную форму. Раскол европейского религиозного единства в XVI в. произошел преимущественно по границам политических единиц. В религиозных войнах теперь сражались либо соперничавшие государства, либо фракции, которые боролись за установление единого монополистического государства на их территории. В отличие от альбигойцев (катаров) гугеноты искали толерантности со стороны государства — всей Франции. Гражданская война в Англии расколола квазиклассы, королевский двор и сельские партии на две стороны, которые защищали себя преимущественно в религиозных терминах, но боролись за религиозную, политическую и социальную судьбу Англии (плюс ее кельтских зависимых стран) как общества. Поскольку социальные группы стали часто так делать, мы можем легко забыть о ее новизне. Подобный «политический» конфликт не доминировал в средневековый период.
Ни экономические, ни религиозные феномены не могут объяснить эти трансформации. Экономическое объяснение, как правило, создает в воображении классы, которые творят историю, но «экономические факторы» не могу объяснить, почему они пришли к своей организационной власти. Очевидно, организованная классовая борьба зависела прежде всего от идеологических, религиозных организаций и лишь затем от политических, национально-государственных организаций. У церквей были расколы и религиозные войны, но «религиозные факторы» не могут объяснить, почему они в возрастающей степени принимали национальную форму.
На самом деле предложенное объяснение придает гораздо меньше важности и в меньшей степени зависит от сознательных действий людей, чем предполагает идеологическое или классовое объяснение. Единственной группой интереса, осознанно желавшей развития национального государства, были государственные элиты, монарх и его ставленники, которые были слабы и задавлены инфляцией. Остальные — купцы, младшие сыновья, церковнослужители и практически все социальные группы обнаруживали себя заключенными в национальные формы организации в качестве побочного результата