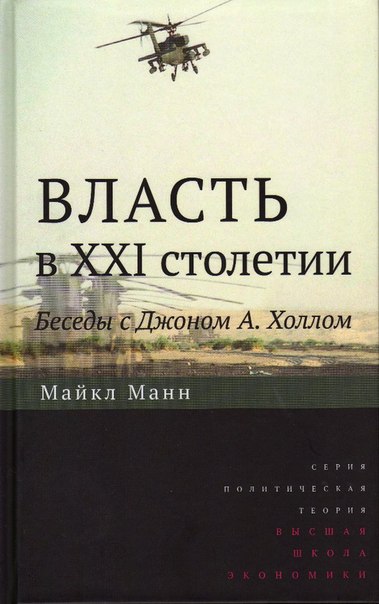королевских посланий, подобных тем, которые Генрих II адресовал своим провинциальным представителям, а также одновременная циркуляция трактатов по управлению поместьем. Данный период демонстрирует оживление интереса к коммуникации, по крайней мере к центральной организации территории. Этот интерес и организация были преимущественно светскими, а разделяли их авторитетные государства и более диффузные элементы «гражданского общества».
Важной частью такого оживления было возрождение классического образования [120], утилитарным крылом которого было переоткрытие римского права, очевидно, применительно к государству, поскольку оно систематизировало универсальные правила поведения по всей территории. Но классическая философия и произведения в целом были также наполнены важностью экстенсивной коммуникации и организации среди наделенных разумом людей (как я утверждаю в главе 9). Они всегда были латентной секулярной альтернативой существующей нормативной роли христианства. Классические знания были доступны в сохранившихся греческих и латинских текстах на краю христианства — в уцелевшей греческой культуре на юге Италии и Сицилии и, что более важно, во всем арабском мире. В XII в. в нормандских княжествах Центрального Средиземноморья и в отвоеванной Испании были восстановлены классические работы, дополненные исламскими комментариями. Папство держало их на расстоянии вытянутой руки. Эти знания были позаимствованы учителями, которые уже вышли за пределы традиционной соборной школы. Они были институционализированы в первых трех европейских университетах: Болонском, Парижском и Оксфордском в начале XIII в., а затем в пятидесяти трех университетах к 1400 г. Университеты сочетали теологию и каноническое право соборных школ с римским правом, философией, письмом и медициной классического обучения. Они были автономными, хотя функциональные отношения с церковью и государством были тесными, поскольку их выпускники во все большей степени занимали средний, неблагородный уровень церковной и государственной бюрократии. Грамоты о высшем образовании назывались «клерками». Эволюция этого термина, обозначающего человека, имеющего тонзуру и относящегося к священническому сословию, до грамотного, то есть «ученого», к концу XIII в. служит свидетельством частичной секуляризации образования.
Таким образом, обмен сообщениями заметно улучшился с XII по XIV в., создавая тем самым большие возможности для контроля за пространством благодаря увеличению количества грамотных людей (Cipolla 1969: 43–61; Clanchy 1981). Коммуникация впервые со времен древних коммуникационных систем получила стимул в конце XIII — начале XIV в. в виде технической революции — замены пергамента бумагой. Как писал Ин-нис (Innis 1950: 140–172), пергамент — вещь надежная, но дорогая. Следовательно, он хорошо подходил таким организациям власти, как церковь, которые делали особый акцент на времени, господстве и иерархии. Бумага была легче, дешевле и быстрее выходила из строя, усиливая экстенсивную, диффузную, децентрализованную власть. Как и большинство изобретений того времени, которые будут описаны ниже, бумага была изобретена не в Европе. Она импортировалась из исламского мира в течение нескольких веков. Но затем, когда были созданы европейские целлюлозно-бумажные фабрики (первая из известных фабрик была запущена в 1276 г.), потенциальная дешевизна бумаги могла быть использована. Увеличивалось количество писцов, книг и книжной торговли. Очки были изобретены в Тоскане в 1280-х гг. и за два десятилетия распространились по всей Европе. Средний объем папской корреспонденции в XIV в. утроился по сравнению с XIII в. (Murray 1978; 299–300). Письменные предписания английским королевским служащим многократно увеличились: соответственно между июнем 1333 г. и ноябрем 1334 г. шериф Бедфордшира и Бакингемшира получил тысячи таких предписаний! Это одновременно способствовало развитию королевской бюрократии и увеличению числа локальных шерифов (Mills and Jenkinson 1928). Увеличивалось количество копий книг. Книга путешествий «Приключения Сэра Джона Мандевиля», написанная в 1356 г., разошлась тиражом более чем 200 экземпляров (один из которых находился в маленькой библиотеке неудачливого еретика Меноккио, упомянутого в главе 12). Было сделано 73 копии «Приключений» на немецком и голландском, 37 на французском, 40 на английском и 50 на латыни. Это свидетельствовало о транснациональном лингвистическом состоянии Европы с народными языками, постепенно вытесняющими латынь (Braudel 1973: 29^).
Вместе с тем до изобретения книгопечатания грамотность и владение книгами были ограничены кругом относительно богатых и городских жителей, а также церковью. Статистические оценки уровня грамотности доступны для несколько более поздних периодов, хотя нам известно, что этот уровень рос на протяжении средневекового периода в Англии. Кресси (Cres-sy 1981) измерял уровень грамотности способностью поставить собственное имя под показаниями, даваемыми в местных судах и записанными епархией Норидж в 1530-х гг. В то время как все священнослужители и профессионалы, а также практически все джентри могли поставить свою подпись в этом десятилетии, лишь треть йоменов, четверть торговцев и ремесленников и около 5 % землепашцев могли расписываться. Такие же невысокие уровни были обнаружены Ле Руа Ладюри (Le Roy Ladurie 1966: 345_347) в Лангедоке в 1570-90-х гг.: лишь 3 % землепашцев и 10% богатых крестьян могли писать. Неспециалисты могут усомниться, является ли подпись признаком грамотности. Но историки утверждают, что она может быть использована для установления способности к чтению и определенных навыков письма. Чтение, а не письмо было более востребованным и широко распространенным достижением. Не было никакого смысла учить человека ставить свою подпись без того, чтобы не учить его читать, к тому же никакой инициативы к обучению письму не проявляли до тех пор, пока определенная властная позиция человека не требовала от него такого умения. В конце средневекового периода чтение и письмо по-прежнему оставались относительно «публичной деятельностью». Важные документы, такие как Великая хартия вольностей, публично выставлялись и зачитывались вслух на собраниях. Документы, завещания и списки заслушивались; у нас еще сохранилась культура «аудиального слова», например «аудит» счетов или «я не слышал от него» (Clanchy 1981). Грамотность парадоксальным образом все еще оставалась устной и в большей степени ограниченной областями публичной власти, особенно церковью, государством и торговлей.
В конце XIV в. произошел прецедент, который укрепил эту ограниченность. Джон Уиклиф был одним из многих радикальных сторонников индивидуального универсального спасения без священнического опосредования: «Каждый человек, заслуживающий порицания, да порицается за проступки свои, каждому человеку да воздастся по заслугам его». Он основал движение лоллардов, которое перевело Библию на английский и распространяло народную литературу через «альтернативные коммуникационные сети» ремесленников, йоменов и местных школьных учителей. Церковь надавила на правительство, чтобы признать это движение ересью. Последовали гонения и репрессии. Тем не менее 175 рукописных копий библий Уикли-фа, переведенных на национальные языки, все еще сохранились. А лолларды остались в дебрях истории.
Это подтверждает классовые и гендерные ограничения (лишь немногие женщины могли читать и еще меньше писать) публичной грамотности. Тем не менее внутри этих рамок грамотность могла распространяться на протяжении всего позднего средневекового периода, широко проникая в господствующие социальные группы. Национальный народный язык объединял их, начиная увеличивать территориально централизованную классовую мораль, которая представляла собой жизнеспособную альтернативу традиционных нетерриториальных сетей классовой морали, типичным представителем