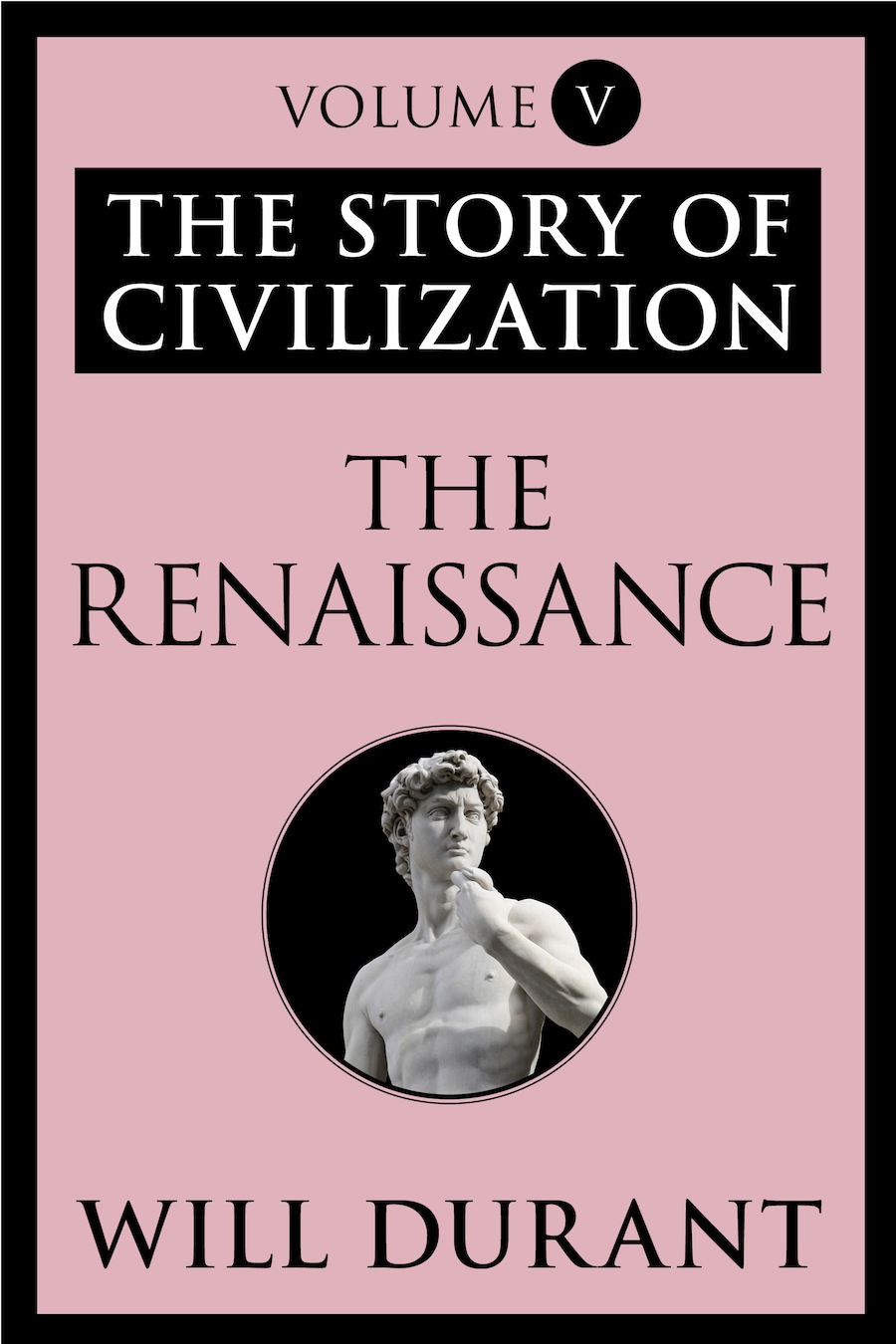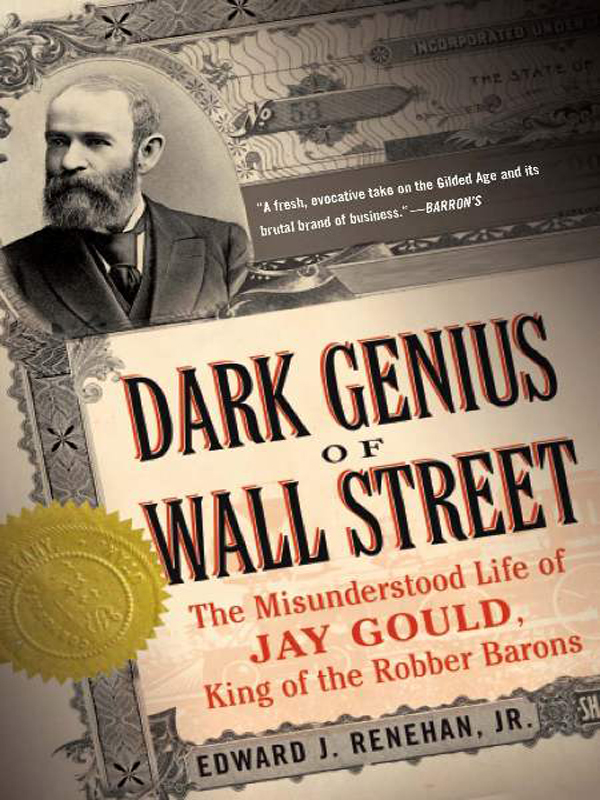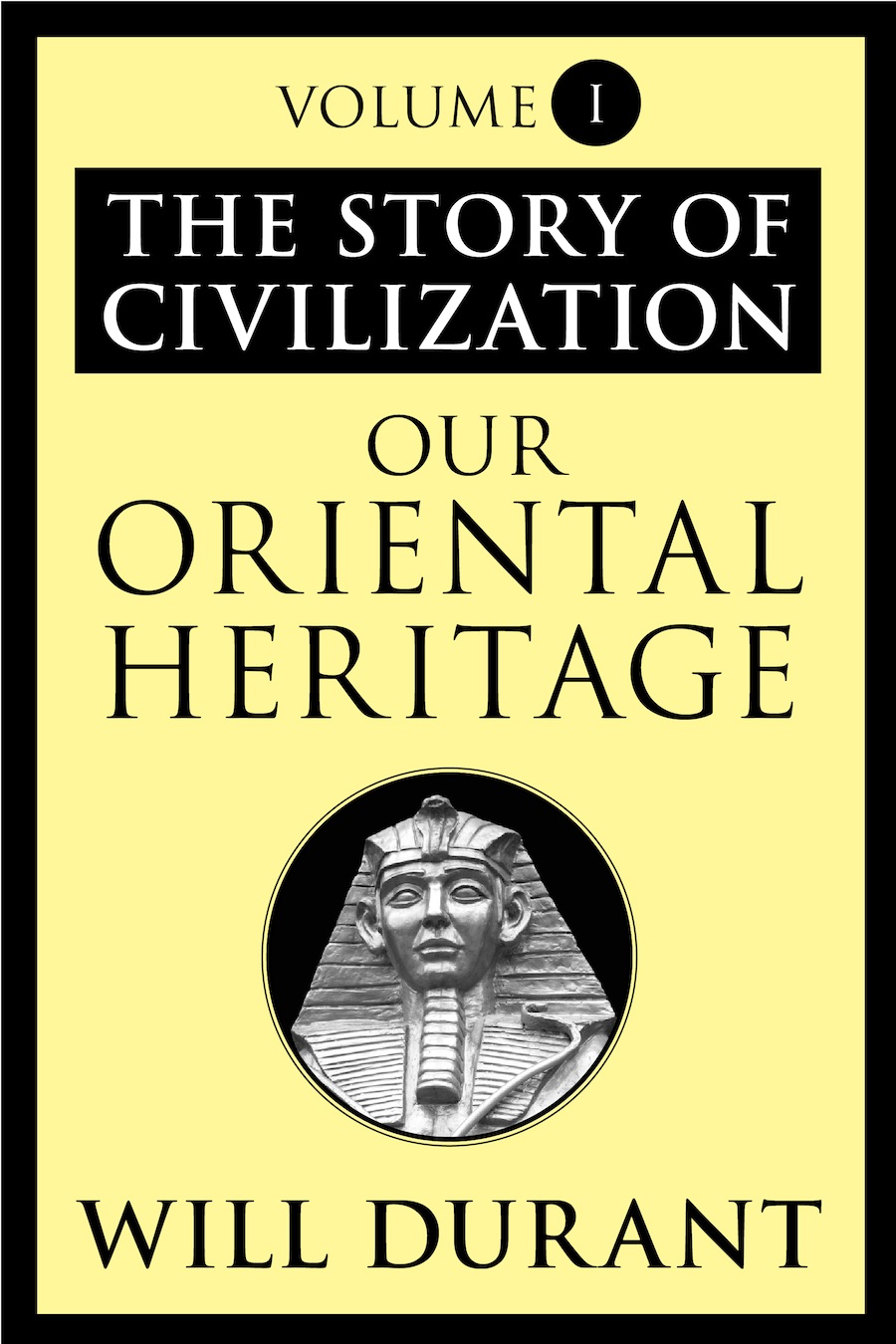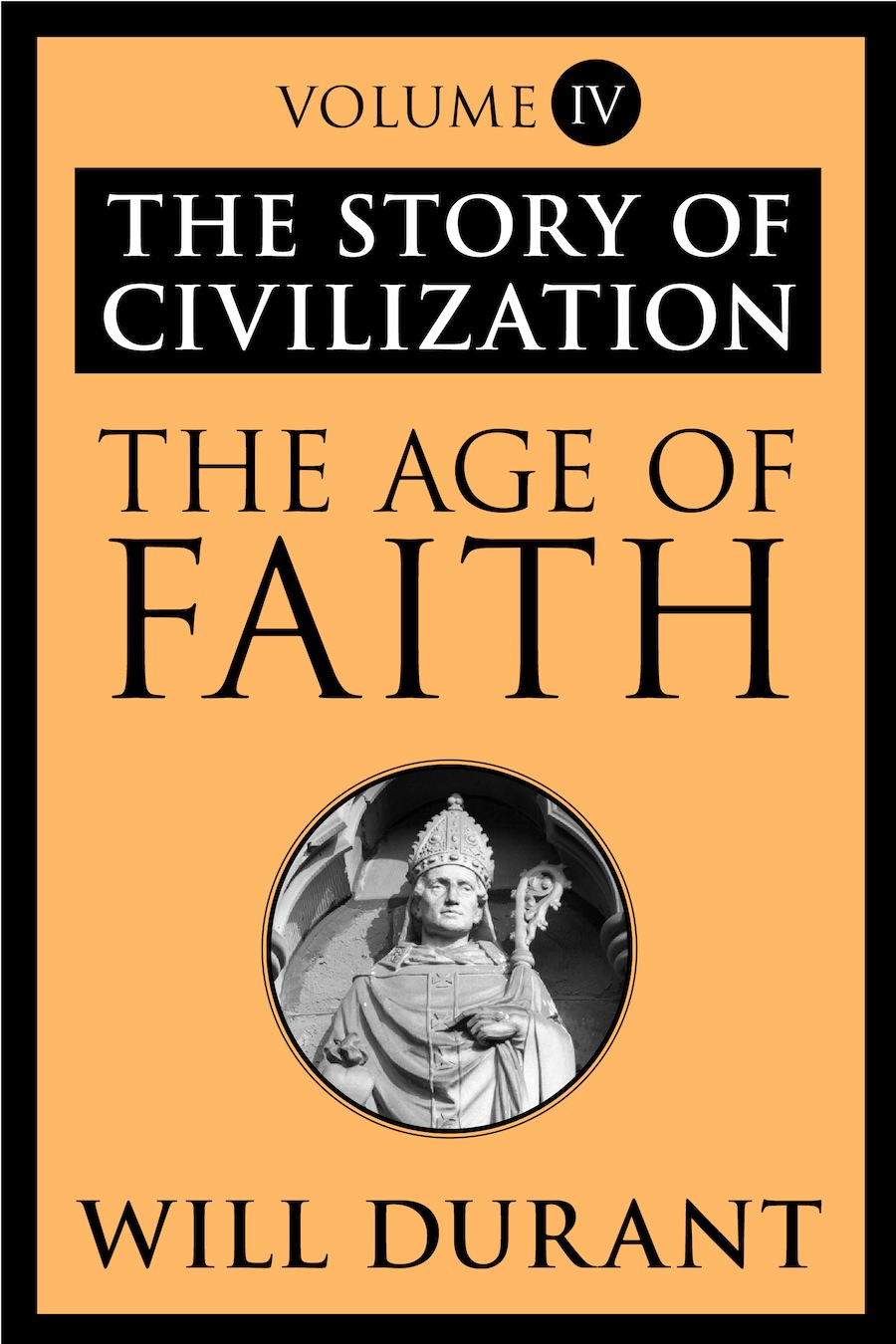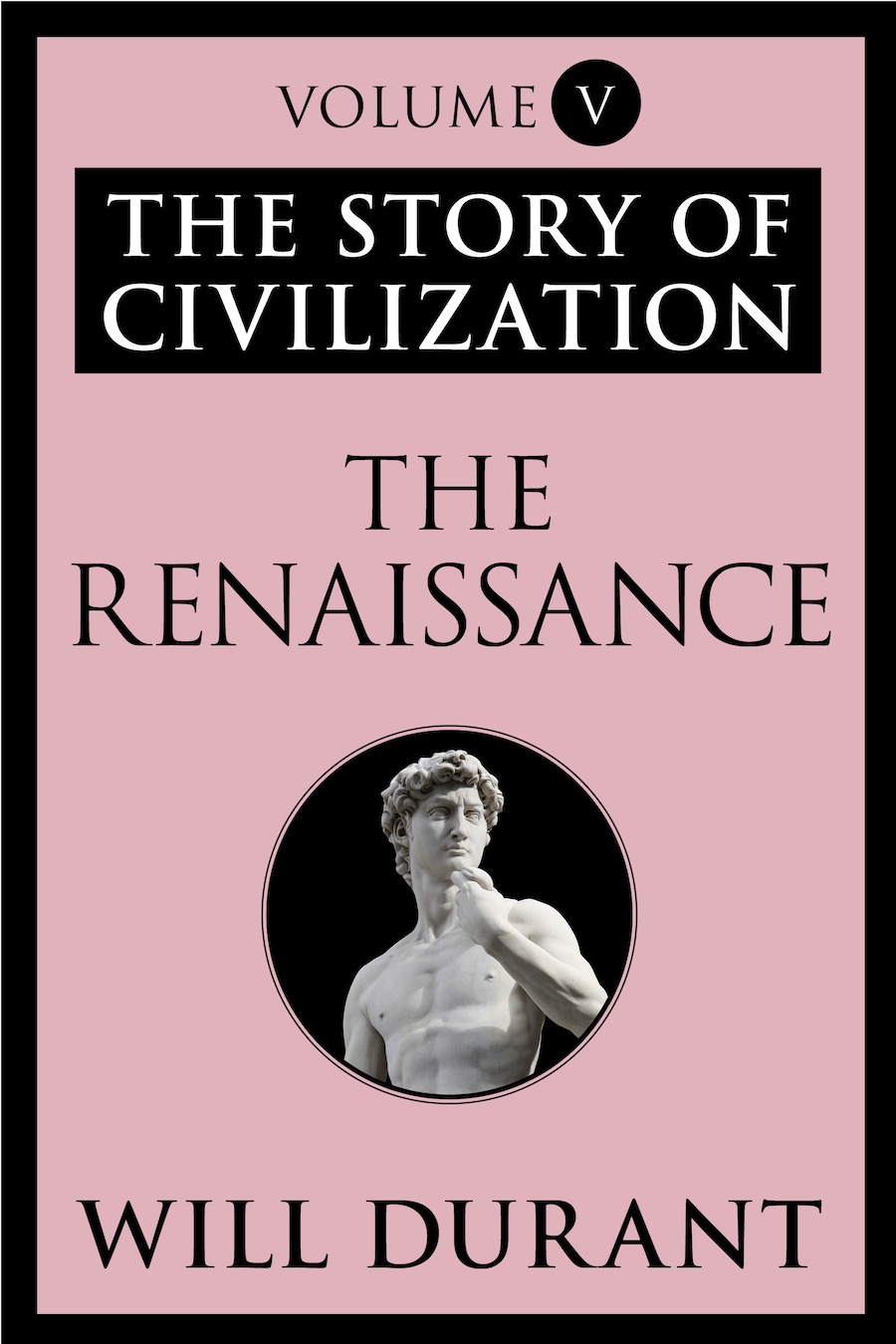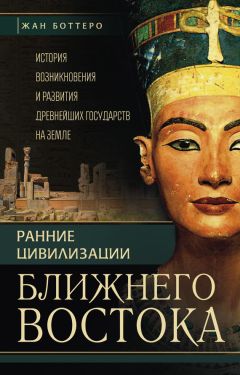книги; другой указывает на преображенного Христа и говорит, что только Он может исцелить мальчика. Обычно принято превозносить великолепие верхней части картины, предположительно выполненной Рафаэлем, и осуждать некоторую грубость и жестокость нижней группы, написанной Джулио Романо; но две лучшие фигуры находятся на нижнем переднем плане — взволнованный читатель и коленопреклоненная женщина с обнаженным плечом и сверкающей драпировкой.
Рафаэль начал работу над «Преображением» в 1517 году, но не успел закончить ее, когда умер. Мы не можем сказать, насколько правдив рассказ Вазари, написанный примерно через тридцать лет после события:
Рафаэль продолжал свои тайные удовольствия сверх всякой меры. После необычайно бурного дебоша он вернулся домой с сильной лихорадкой, и врачи решили, что он простудился. Поскольку он не признался в причине своего расстройства, врачи неосмотрительно пустили ему кровь, тем самым ослабив его, когда он нуждался в восстанавливающих средствах. В соответствии с этим он составил завещание, сначала отослав свою хозяйку из дома, как христианку, оставив ей средства на честную жизнь. Затем он разделил свои вещи между своими учениками: Джулио Романо, которого он всегда очень любил, Джованни Франческо Пенни из Флоренции и неким священником из Урбино, родственником….. Исповедавшись и проявив покаяние, он закончил свой жизненный путь в день своего рождения, в Страстную пятницу, в возрасте тридцати семи лет (6 апреля 1520 года).91
Священник, пришедший отпевать его, отказался войти в комнату больного, пока любовница Рафаэля не покинет дом; возможно, священнику показалось, что ее дальнейшее присутствие будет свидетельствовать об отсутствии у Рафаэля раскаяния, необходимого для отпущения грехов. Оттесненная даже от похоронного кортежа, она впала в меланхолию, грозившую безумием, и кардинал Биббиена убедил ее стать монахиней. Все художники Рима последовали за умершим юношей к его могиле. Лев оплакивал потерю своего любимого художника, а папский секретарь и поэт Бембо, который мог быть столь красноречивым на латыни и итальянском, отбросил всякую риторику, сочиняя эпитафию для гробницы Рафаэля в Пантеоне:
ILLE HIC EST RAPHAEL
— «Тот, кто здесь, — Рафаэль». Этого было достаточно.
По мнению современников, он был величайшим художником своей эпохи. Он не создал ничего равного по возвышенности Сикстинскому потолку, но Микеланджело не создал ничего равного по общей красоте пятидесяти мадоннам Рафаэля. Микеланджело был более великим художником, потому что был великим в трех областях, более глубоким в мыслях и искусстве. Когда он сказал о Рафаэле: «Он — пример того, что может дать глубокое изучение».92 он, вероятно, имел в виду, что Рафаэль приобрел путем подражания достоинства многих других художников и объединил их с усердным талантом в совершенный стиль; он не чувствовал в Рафаэле той творческой ярости, которая вскоре отбрасывает руководство и почти насильственно прокладывает свой собственный путь. Рафаэль казался слишком счастливым, чтобы быть гением в традиционном неистовом смысле; он настолько разрешил свои внутренние конфликты, что в нем почти не было признаков демонического духа или силы, которая толкает самые великие души к творчеству и трагедии. Работы Рафаэля были продуктом законченного мастерства, а не глубокого чувства или убеждения. Он приспосабливался к нуждам и настроениям то Юлия, то Льва, то Чиги, но всегда оставался бесхитростным юношей, весело колеблющимся между мадоннами и любовницами; таков был его бесхитростный способ примирить язычество и христианство.
Как художник в смысле техники, никто не превзошел его; в расположении элементов в картине, ритме масс, плавном течении линии никто не сравнился с ним. Его жизнь была преданностью форме. Поэтому он стремился оставаться на поверхности вещей. За исключением портрета Юлия II, он не вникал в тайны и противоречия жизни или вероисповедания; тонкость Леонардо и чувство трагизма Микеланджело были для него одинаково бессмысленны; достаточно было вожделения и радости жизни, создания и обладания красотой, верности друга и возлюбленной. Рёскин был прав: в готической скульптуре и «прерафаэлитской» живописи Италии и Фландрии время от времени появлялись простота, искренность и возвышенность веры и надежды, которые проникали в душу глубже, чем прелестные мадонны и сладострастные Венеры Рафаэля. И все же «Юлий II» и «Жемчужная мадонна» не поверхностны, они проникают в самое сердце мужского честолюбия и женской нежности; «Юлий» больше и глубже, чем «Мона Лиза».
Леонардо озадачивает нас, Микеланджело пугает, Рафаэль дарит нам покой. Он не задает вопросов, не вызывает сомнений, не внушает ужаса, но предлагает нам прелесть жизни, как амброзиальный напиток. Он не допускает конфликта между разумом и чувством, между телом и душой; все в нем — гармония противоположностей, создающая пифагорейскую музыку. Его искусство идеализирует все, к чему прикасается: религию, женщину, музыку, философию, историю, даже войну. Сам удачливый и счастливый, он излучал безмятежность и благодать. В произвольных аналогиях гения он находит свое место чуть ниже величайших, но вместе с ними: Данте, Гете, Китс; Бетховен, Бах, Моцарт; Микеланджело, Леонардо, Рафаэль.
X. LEO POLITICUS
Жаль, что среди всего этого искусства и литературы Льву приходилось играть в политику. Но он был главой государства и жил в то время, когда у держав за Альпами были амбициозные лидеры, большие армии и похотливые генералы; в любой момент Людовик XII Французский и Фердинанд Католик могли договориться о разделе Италии, как они договорились о разделе Неаполитанского королевства. Чтобы противостоять этим угрозам и, кстати, укрепить папские государства и возвеличить свою семью, Лео планировал объединить Флоренцию (которой он уже управлял через своего брата Джулиано и племянника Лоренцо) с Миланом, Пьяченцей, Пармой, Моденой, Феррарой и Урбино в новую мощную федерацию, которой будут править верные Медичи; объединить их с существующими государствами Церкви в качестве барьера для агрессии с севера; если возможно, обеспечить путем брака для кого-то из членов своего дома престолонаследие Неаполитанского престола; и, с Италией, объединенной в силу, возглавить Европу в еще одном крестовом походе против постоянно угрожающих турок. Макиавелли, не имевший никаких предубеждений против христианства или папы, горячо одобрил этот план, по крайней мере в том, что касалось объединения и защиты Италии; это была главная идея «Князя».
Преследуя эти цели с весьма ограниченными военными средствами в своем распоряжении, Лев использовал все методы государственного управления и дипломатии, применявшиеся князьями его времени. Было неудобно, что глава христианской церкви должен лгать, нарушать веру,