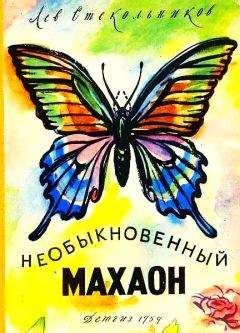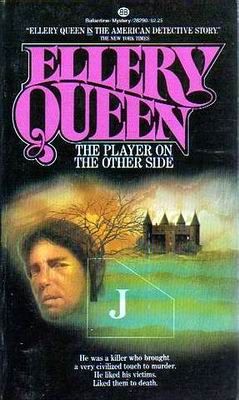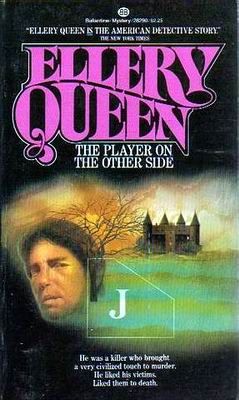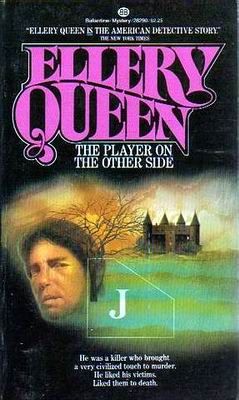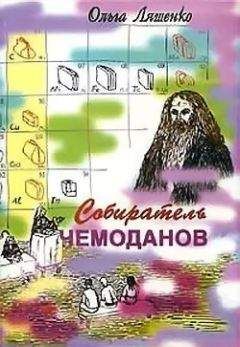Род хвостоносцев представлен в Европе и в Азии бедно. Кроме махаона, у нас попадается в средней и южной России похожий на него подалирий — вот и все наши хвостоносцы.
Зато на юге Индии, на острове Цейлон и в Новой Гвинее настоящее их царство.
Там летает не меньше двух десятков великолепно окрашенных видов рода хвостоносцев, носящих звучные имена героев древней Греции.
Например, «гектор», задние крылья которого украшены ярко-красными пятнами; зеленый «агамемнон» с черными пятнами и многие другие.
Вот каких интересных родственников имеет наш «ласточкин хвост».
Но откуда взялось у этой бабочки имя: махаон? Так назвал ее великий шведский натуралист Карл Линней. Название взято из «Илиады» Гомера. Есть там такой эпизод: ранен царь Менелай. Греки ищут искусного врача:
…скорей позови Махаона, —
Мужа, родитель которого —
врач безупречный Асклепий.
Вот и получается, что наша бабочка имеет отношение к «врачебному миру».
Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.
А. С. Пушкин
Когда мне было шесть лет, я дружил с мальчиком Сашей. Жили мы тогда в пригороде, вместе бегали по пустырям, а по вечерам Саша, который был старше меня, рассказывал страшные, таинственные истории о колдунах, разбойниках, мертвецах и призраках.
Многое из того, что он говорил, забылось, но крепко запало в память начало не то песни, не то стиха: «Червь кровавый, червь могильный..»
Слова эти заставляли меня ежиться от страха и с опаской оглядываться.
Однажды, истребляя деревянным мечом крапиву вблизи кладбищенской рощи, я увидел на гнилом пне длинного кроваво-красного толстого червя. Страх и отвращение охватили меня.
«Это, наверное, тот самый червь, который живет на кладбищах и ест мертвецов», — подумал я и пустился бежать без оглядки.
Прошли года. Встреча с красным червем потускнела в моей памяти.
Однако мне пришлось увидеть его еще раз. И тогда я уже не испугался, а заинтересовался.
Стояла поздняя осень. В раздетой роще пахло нё грибами, а просто сыростью. У перекрестка двух лесных дорожек я заметил дуплистую старую осину. Было тихо, но сквозь сонную песню дождя слышался скрип. Казалось, что кто-то гложет дерево. Я прислушался. Звуки доносились из дупла. Из него кисло пахло древесным уксусом. Я отломил несколько кусков рыхлого дерева и невольно отдернул руку.
Сразу же вспомнилась строка: «Червь кровавый, червь могильный».
Но мне было уже не шесть, а шестнадцать лет. Я достал «червя» прутиком из его убежища и стал с любопытством рассматривать.
Был он сантиметров десяти в длину, сверху темно-мясного цвета, а с боков и снизу красновато-желтый. Голова черная, шестнадцать ног… Это же гусеница, а не червь! Древоточец пахучий! Тотчас вспомнилось описание его в атласе бабочек. Хорошо бы получить для коллекции древоточца! И я посадил «кровавого» червя обратно в дупло. Я знал, что гусеница эта развивается очень медленно. Иногда она трижды зимует, прежде чем превратится в бурую, с рогом на лбу, куколку…
Весною, щурясь от острых лучей апрельского солнца, я пришел на свидание с древоточцем.
Но где же осина? Вместо нее торчал высокий пень. Не удивительно, что дерево свалилось. Оно было все пронизано «ходами» древоточца. Куколки я не нашел.
Года два спустя удалось мне увидеть и бабочку. В ней не было ничего страшного: толстая, тускло-бурого цвета, неповоротливая.
Но почему же гусеницу древоточца часто видят на кладбищах? Кстати, это и дает пищу суеверному воображению.
Дело в том, что древоточец чаще всего живет в старых деревьях, а старые ивы, тополя и дубы обычно растут на кладбищах, особенно на сельских.
Вот и разгадка «червя кровавого, червя могильного». Как же бороться с этим опасным вредителем лесных, а иногда и плодовых деревьев?
«Ходы» древоточца замазывают ядовитыми веществами. Если же дерево очень сильно поражено, то лучше его срубить и сжечь вместе с вредителем.
На рисунке: сверху вниз — крапивница, адмирал, павлиний глаз с гусеницей, траурница (антиопа) с гусеницей.
Люблю дорожкою лесною, Не знаю сам куда идти…
А. Майков
Я очень люблю забраться в лес, сесть на пенек и притаиться, чтобы все лесные обитатели, забыв о моем присутствии, стали бегать, ползать, прыгать… словом, свободно заниматься своими неотложными лесными делишками.
В жаркий полдень середины июля я остановился отдохнуть в светлой лиственной роще.
Земля изнывала от зноя. Птицы примолкли. Только бабочки продолжали летать от цветка к цветку, но чувствовалось, что им тоже жарко.
Я схоронился за кустом черемухи и глядел на дорожку, на которой темнели лужи — следы ночного дождя.
Нет большего удовольствия для бабочек, чем сидеть в пестром обществе вокруг лужи и потягивать через хоботок прохладную, пахнущую прелыми листьями воду. Лужа на лесной дороге — это своего рода клуб для бабочек.
Из своего укрытия я видел, что на дороге сидели: рыжая перламутровка аглая, у которой на крыльях змеился черный узор, напоминающий число 1556, темно-коричневая с желтым ободком траурница, маленький шелковисто-голубой икар и мохнатая ночница — лунка серебристая. Все четыре бабочки ярко выделялись на серой полосе дороги.
Кроме меня, еще два глаза следили за «лесным клубом».
На старой березе, склонившейся над самой дорогой, сидел пернатый хищник — гроза насекомых — сорокопут-жулан. Он только что позавтракал крупным жуком, но при виде бабочек, сидящих на земле, у него, должно быть, вновь проснулся аппетит. Он нацелился и… бух — камнем бросился вниз.
«Кого же он схватит? — подумал я. — Аглаю, траурницу или не: уклюжую лунку?»
И что же! Сорокопут сидел возле лужи, слегка приоткрыв клюв. Вид у него был озадаченный. Он словно хотел сказать:
— Где же бабочки?
В самом деле бабочек не было видно.
Сорокопут сердито затрещал клювом — должно быть, выругался по-птичьи — и улетел.
Тут я подвинулся ближе и внимательно оглядел дорогу, березу и траву вдоль обочин.
И я увидел членов лесного клуба совсем близко от себя.
Траурница сидела на стволе старой березы в том месте, где отстает черно-белая кора, и была от коры не отличимой. У нее ведь нижняя сторона крыльев черная с белым ободком. Аглая притаилась в траве, где узкие черные тени писали на рыжей земле бесконечные числа, и словно шапку-невидимку надела. Икар по тревоге сел на ближний стебелек, сложил свои крылышки и стал похожим на голубоватый листик клевера.
А лунка поступила всех хитрее. У нее на каждом крыле (в верхнем углу) имеется круглое желтое пятно-, «луна». Бабочка и улетать не стала.
Она придвинулась к луже, и ее «луна» отразилась в воде.
Справа, слева посмотри — нет бабочки, а есть сломанный сухой сучок, лежащий на краю лужи.
Я вспомнил сорокопута, его озадаченный вид — и засмеялся:
— Вот так бабочки! Перехитрили!
… Но как мило знать, что с нами вместе
Жизнь другая есть!
В. Брюсов
Довелось мне однажды работать в Карелии зимой. Надо было срочно подготовить местность для съемки. Чтобы не ходить далеко на работу, мы с вычислителем Алешей поселились в заброшенной избушке, стоявшей на берегу лесного озера. Избушка эта напоминала старую черную баню, но зато находилась она в самом центре участка и мы были ею довольны.
Вечера зимою длинные, а развлечений у нас было мало. Поужинав, мы проверяли записи, а потом играли в шахматы или читали. Но жар от печурки и сонный свет фонаря «летучая мышь» очень скоро укладывали нас в спальные мешки.
— Собаку бы завести, что ли, — говорил Алеша, — недостает чего-то…
Я и сам чувствовал, что нам недостает третьего товарища; и, наверно, мы завели бы себе какого-нибудь Шарика или Тузика, когда бы не неожиданное вторжение в нашу жизнь нового «зимовщика».
Однажды вечером, иззябнув на работе, мы так раскалили нашу печурку, что она стала даже потрескивать. Я взглянул на термометр: 26 градусов!
— Не хватит ли топить, Алеша? — спросил я.
Вместо ответа я услышал возглас:
— Бабочка!
Действительно, на нашем колченогом столе, заставленном консервными банками и чашками, сидела зеленовато-желтая крушинница. Бабочка медленно ползла, перебирая слабыми лапками, то скручивая, то раскручивая тонкий хоботок.
— Вот чудо! Откуда она взялась? — спросил Алеша.
— Не вижу здесь чуда, — ответил я, — она зимовала в нашей избушке. И, наверно, спала бы до весны, когда бы ее не обмануло тепло…
— А как же, — перебил Алеша, — в стихах говорится: