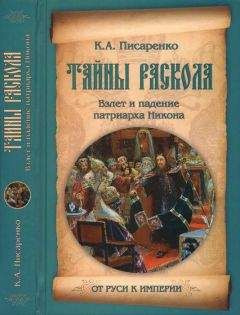Об условиях компромисса можно догадаться: жена прекращала поддержку противников войны, если муж обещал дождаться либо истечения срока Деулинского перемирия, заключенного с Польшей 1(11) декабря 1618 г. сроком на четырнадцать с половиной лет, либо очень выгодной внешнеполитической конъюнктуры. Отставка 22 декабря 1626 (1 января 1627) г. и ссылка через шесть дней в Алатырь полонофила и пацифиста думного дьяка Посольского приказа Ивана Тарасьевича (Курбатовича) Грамотина есть косвенный признак существования такого уговора. Грамотин ослушался патриарха, рассердил «своим самоволством и упрямством». Учитывая, что за две недели до того, 3 (13) декабря, в Москве завершились дипломатические консультации с послами Швеции Александром Рубцовым и Георгом Бенгартом при участии И.Б. Черкасского и М.Б. Шеина, Грамотин, скорее всего, пострадал за несогласование с Филаретом (но не с Черкасским) официального ответа от имени царя. Ответ сей, в принципе, дублировал то, о чем уведомили предшествующее посольство — Эверта Бромана и Генриха фон Унгерна — 25 апреля (5 мая) 1626 г.: «Добрый совет отомстить королю Сигизмунду великий государь принимает в любовь, мыслить о том будет, только теперь, в перемирные лета, сделать этого нельзя!» Мало того, Рубцову и Бенгарту запретили проезд «в Белую Русь и в Запорожье» зондировать настроения казацкой старшины. Патриарх же, наверняка, думал о более теплом приеме шведских гостей в надежде наладить тесный контакт с воинственным королем Швеции Густавом II Адольфом. Однако Грамотин или… Черкасский его опередил, почему Филарету пришлось переключаться с северного (шведского) на сложное, южное (турецкое) направление в поисках первого партнера для антипольской коалиции. Естественно, думного дьяка в назидание другим покарали. Но важно отметить, что ни Черкасский, ни Марфа Ивановна, никто за почтенного «канцлера» не заступился…{5}
Разочарованные шведы охладели к Москве на целых два года, до подписания в сентябре 1629 г. Альтмаркского перемирия с Речью Посполитой. Челночная дипломатия с Османской империей затянулась надолго. Мурад IV идею совместной атаки Польши воспринял благосклонно. Однако кровопролитная война с Персией и интриги амбициозного каймакама, в феврале — мае 1632 г. великого визиря Резеп-паши не позволили султану сконцентрироваться на польском фронте ранее весны 1634 г. Между тем Деулинскос перемирие заканчивалось 1(11) июня 1633 г., Альтмаркское — осенью 1635 г. Понимая, что союзников в нужный момент не будет, и, не имея терпения на какие-либо еще ожидания, Филарет искусственно ускорил развязывание войны. Поводом послужила смерть короля Сигизмунда III 20 (30) апреля 1632 г. Формально она была выгодной внешнеполитической конъюнктурой. Фактически давала всего одно преимущество — выигрыш по времени до нескольких месяцев (около полугода), необходимых полякам для созыва сейма и избрания нового короля. Эту фору нейтрализовали два татарских набега, спровоцированные в 1632 г. неурожаями в Крыму, в 1633 г. — польским подкупом. Черкасский оказался бессилен перед напором патриарха, мечтавшего об освобождении Смоленска при жизни, и над которым судьба зло посмеялась. Впрочем, не все в России знали, на чьей именно совести смоленская катастрофа. Иван Борисович желал известить о том соотечественников. Только каким образом, если священную персону патриарха трогать возбранялось по определению? Наказанием ближайшего ее помощника, «правой руки», каковым и являлся боярин Михаил Борисович Шеин{6}.
О реакции народа на казнь воеводы источники немногословны. Разумеется, о подлинном значении церемонии сообразили немногие. Большинство подтекста в царском манифесте, конечно же, не уловило и искренне уверовало в измену Шеина. Немецкий путешественник Адам Олеарий умудрился в причудливой форме отразить и пересуды толпы, и мнение посвященных: «… вернувшиеся в жалком состоянии из-под Смоленска солдаты стали сильно жаловаться на измену генерала Шеина, из-за которой и более высокое лицо не без причины подверглось подозрению»{7}. Вот это сумбурное смешение «измены» с «подозрением» и взрастит очень быстро новую идеологию, идеологию «благочестия». Два военных краха менее чем за четверть века, убеждали лучше всяких слов в хронической недееспособности пережившего Смуту русского общества решить даже простую проблему возвращения Смоленска. И в 1613—1618 гг., и в 1632—1634 гг. оно по какой-то причине, невзирая на первоначальные воодушевление и успехи, неизменно в финале оказывалось у разбитого корыта. Черкасский «изменой» Шеина, намеком на Филарета подстегнул процесс прозрения: смоленский позор обусловлен нравственной деградацией русского человека.
По-видимому, первым сформулировал радикальную мысль сорокалетний нижегородский поп Иван Неронов, прославившийся своей непримиримостью к брадобритию, а в конце 1631 г. дерзко осудивший планы войны с Польшей. Патриарх, прежде покровительствовавший ему, ученику троице-сергиева архимандрита Дионисия Зобниновского, отреагировал на мольбы священника «о умирении тоя брани» крайне жестко: 31 января (10 февраля) 1632 г. отправил проповедника на север, в двинский Николо-Корельский монастырь, под надзор местных монахов и игумена Сергия, где Неронов протомился около двух лет. Реабилитировал попа в 1634 г. И. Б. Черкасский, снявший опалу со всех, кто так или иначе помогал бороться с военным фальстартом батюшки царя. Уже 5 (15) октября 1633 г. он вызвал в Москву Ивана Грамотина, днем ранее — братьев Салтыковых и 3 (13) января 1634 г. взял младшего, Михаила Михайловича, ко двору в чине окольничего.
Отца Иоанна тоже пригласили в Москву для благой беседы с Михаилом Федоровичем и новым патриархом Иоасафом, затем отпустили с «дары от них многи» в Нижний Новгород{8}.
Там, на волжских берегах, в течение года возникли и новая «благочестивая» философия, и скромный кружок «ревнителей» истинного благочестия. Как всегда, становлению движения содействовал конфликт. Часть священников, ведомая попами Спасской и Архангельской церквей, не приняла постулаты Неронова по причине их неудобства для прихожан. Сторонники нового учения добивались запрета многогласия (разбивки текста молитвы или песнопения на ряд отрывков для одновременного произнесения двумя и более лицами), чггения часов на утренней службе, а не в обед, практики прокуратства (притворства нищим или юродивым), 6о-быльства пономарей, брани, рукоприкладства и хождения в церквах, пьянства, употребления в пищу «удавленины» (удушенных птиц и зверей), языческих забав с медведями, скоморохами, кулачными боями, колядованием, азартных игр. Оппоненты не понимали, зачем обеднять аскетизмом и без того трудную жизнь. О том, что самоотречение должно воспитать нового человека, радеющего об общем благе, а не о собственной корысти, нероновцы если и заикались, то опять же не находили сочувствия как среди коллег, так и у горожан, живших днем нынешним, а не грядущим.
В конце концов отвергнутые земляками, неоднократно битые ими, отчаявшиеся, восемь священников вместе с вожаком обратились за поддержкой к хорошему знакомому Неронова — патриарху Иоасафу. Весной или летом 1636 г. они отправили в Москву челобитную с описанием греховных пороков и зазорных привычек сограждан, подлежащих искоренению, для чего требовался указ святейшего владыки, авторитета непререкаемого для православных, и нижегородцев тоже. Иоасаф инициативу из Нижнего поддержал 14 (24) августа 1636 г., но не указом, а «Памятью», актом скорее рекомендательного характера. Сохранился экземпляр, адресованный московским иереям, почти дословно повторяющий пассажи челобитной{9}.[3] Увы, расчет на патриарха не оправдался. Широкого отклика нижегородский манифест не имел, и второго Кузьмы Минина из Ивана Неронова не вышло. «Память» «разбудила» единицы, и, похоже, одного из «проснувшихся» звали Стефаном Ванифатьевым.
О прошлом этого человека ничего не известно. Версия о службе диаконом в Благовещенском соборе в середине 30-х годов документально не подтверждается, ибо в списках причта главного храма и шести соборных приделов данное лицо не значится. При каких обстоятельствах обратил на него внимание боярин Б.И. Морозов, воспитатель («дядька») царевича Алексея Михайловича, мы тоже не знаем. Возможно, с ним водил знакомство протопоп Благовещенского собора Кремля, царский духовник Никита Васильев. Возможно, ему повезло случайно попасть в поле зрения самого Бориса Ивановича, либо кто-то из родных или друзей сановника хорошо отозвался о нем… Зато не подлежит сомнению, почему им заинтересовался Морозов. Вельможу привлекли начитанность, рассудительность и, особенно, ревностно благочестивый образ жизни Ванифатьева. Придет время и он использует эти достоинства в сугубо политических целях. А пока…
А пока нам стоит задаться вопросом: почему же воззвание нероновцев прозвучало, можно сказать, вхолостую? Ведь страна нуждалась в свежих идеях, способных переломить череду неудач. Почему нижегородцу Минину в 1611 г. посчастливилось всколыхнуть целый народ, а нижегородцу Неронову в 1636 г. нет? Потому что в 1611 г. у русского народа национальный лидер отсутствовал, а в 1636 г. был. Пока отец Иоанн в Нижнем оттачивал принципы духовного возрождения России, Иван Борисович Черкасский за два года, во-первых, сумел крупное военное поражение под Смоленском превратить в маленькую дипломатическую победу при речке Поляновке. 17 (27) мая 1634 г. послы Ф.И. Шереметев и А.М. Львов, опираясь на героизм защитников крепости Белой, создание за зиму в Можайске новой армии и обещание турок открыть той же весной второй фронт, вынудили поляков подписать мирный трактат, признавший Михаила Федоровича русским царем, а городок Серпейск с окрестностями — русской территорией. Во-вторых, князь занялся тем, что его предшественнику надлежало сделать в первую очередь — строительством оборонительных рубежей на четырех дорогах (шляхах, сакмах) — Ногайской (рязанское направление), Изюмской, Муравской и Кальмиусской (тульское направление), по которым татары прорывались в густонаселенные районы страны.