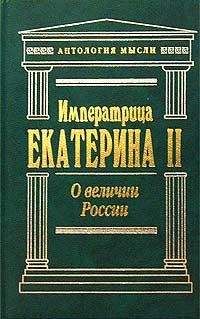Чоглоков вздумал в это время доставить нам развлечение, или, вернее, не зная, что делать самому и жене от скуки, он приглашал нас с великим князем приходить ежедневно после обеда играть у него в покоях, которые он занимал при дворе и которые состояли из четырех-пяти довольно маленьких комнат. Он звал туда дежурных кавалеров и дам и принцессу Курляндскую, дочь герцога Эрнста Иоганна Бирона, прежнего фаворита императрицы Анны. Императрица Елисавета вернула этого герцога из Сибири, куда во время регентства принцессы Анны он был сослан; местом жительства ему назначили Ярославль, на Волге; там он и жил: с женою, двумя сыновьями
Стр. 558
и дочерью. Эта дочь не была ни красива, ни мила, ни стройна, ибо она была горбата и довольно мала ростом, но у нее были красивые глаза, ум и необычайная способность к интриге; ее отец и мать не очень ее любили; она уверяла, что они постоянно дурно с ней обращались.
В один прекрасный день она убежала из родительского дома и укрылась у жены ярославского воеводы, Пушкиной. Эта женщина, в восторге, что может придать себе значение при дворе, привезла ее в Москву, обратилась к Шуваловой и бегство принцессы Курляндской из родительского дома объяснила как следствие преследований, которые она терпела от родителей за то, что выразила желание перейти в православие.
В самом деле, первое, что она сделала при дворе, было действительно ее исповедание веры; императрица была ее крестной матерью, после чего ей отвели помещение среди фрейлин. Чоглоков особенно старался выказывать ей внимание, потому что старший брат принцессы положил основание его благополучию, взяв его из Кадетского корпуса, где он воспитывался, в кавалергарды, и держал его при себе для посылок. Принцесса Курляндская, втершаяся таким образом к нам и игравшая каждый день в триссет в течение нескольких часов с великим князем, с Чоглоковым и со мною, вела себя вначале с большою сдержанностью: она была вкрадчива, и ум ее заставлял забывать, что у нее было неприятного в наружности, особенно, когда она сидела; она каждому говорила то, что могло ему нравиться.
Все смотрели на нее, как на интересную сироту, к ней относились как к особе почти без всякого значения. Она имела в глазах великого князя другое достоинство, которое было немаловажным: это была своего рода иностранная принцесса и тем более немка, следовательно, они говорили вместе только по-немецки. Это придавало ей прелести в его глазах; он начал оказывать ей столько внимания, сколько был способен; когда она обедала у себя, он посылал ей вниз и некоторые любимые блюда со своего стола, и, когда ему попадалась какая-нибудь новая гренадерская шапка или перевязь, он их посылал к ней, чтобы она посмотрела. Это было не единственное приобреСтр. 559
тение, которое двор сделал в Москве в лице этой Курляндской принцессы, которой могло быть тогда от двадцати четырех до двадцати пяти лет.
Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романаxcix, его младшего брата. Старшей, Марииc, могло быть около четырнадцати лет, ее сделали фрейлиной императрицы; младшая, Елисаветаci, имела всего одиннадцать лет; ее определили ко мне; это была очень некрасивая девочка, с оливковым цветом лица и неопрятная до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами.
К концу масленой императрица вернулась в город. На первой неделе Поста мы начали говеть. В среду вечером я должна была пойти в баню, в доме Чоглоковой; но накануне вечером Чоглокова вошла в мою комнату, где находился и великий князь, и передала ему от императрицы приказание тоже идти в баню. А бани и все другие русские обычаи и местные привычки не только не были по сердцу великому князю, но он даже смертельно их ненавидел. Он наотрез сказал, что не сделает ничего подобного; Чоглокова, тоже очень упрямая и не знавшая в своем разговоре никакой осторожности, сказала ему, что это значит не повиноваться Ее Императорскому Величеству. Он стал утверждать, что не надо приказывать того, что противно его натуре, что он знает, что баня, где он никогда не был, ему вредна, что он не хочет умереть, что жизнь ему дороже всего, и что императрица никогда его к такой вещи не принудит. Чоглокова возразила, что императрица сумеет наказать его за сопротивление. Тут он рассердился и сказал ей вспыльчиво: «Увидим, что она мне сделает, я не ребенок». Тогда Чоглокова стала ему угрожать, что императрица посадит его в крепость. Ввиду этого он принялся горько плакать, и они наговорили друг другу всего, что бешенство могло им внушить самого оскорбительного, и у обоих буквально не было здравого смысла.
В конце концов она ушла и сказала, что передаст слово в слово этот разговор императрице. Не знаю, что она сдеСтр. 560
лала, но она вернулась, и разговор принял другой оборот, ибо она сказала, что императрица говорила и очень сердилась, что у нас еще нет детей, и что она хотела знать, кто из нас двоих в том виноват, что мне она пришлет акушерку, а ему - доктора; она прибавила ко всему этому много других обидных и бессмысленных вещей и закончила словами, что императрица освобождает нас от говения на этой неделе, потому что великий князь говорит, что баня повредит его здоровью. Надо знать, что во время этих разговоров я не открывала рта: во-первых, потому, что оба говорили с такою запальчивостью, что я не находила, куда бы вставить слово; во-вторых, потому, что я видела, что с той и другой стороны говорят совершенно безрассудные вещи. Я не знаю, как судила об этом императрица, но, как бы то ни было, больше не поднимался вопрос ни о том, ни о другом предмете после того, что только что я рассказала.
В половине Поста императрица поехала в Гостилицы к графу Разумовскому, чтобы отпраздновать там его именины, и она послала нас со своими фрейлинами и с нашей обычной свитой в Царское Село. Погода была необыкновенно мягкая и даже жаркая, так что 17 марта не было больше снегу, и пыль стояла по дороге. Приехав в Царское Село, великий князь и Чоглоков принялись охотиться; я же и дамы делали как можно больше прогулок то пешком, то в экипажах; вечером играли в различные игры. Здесь великий князь стал выказывать решительное пристрастие к принцессе Курляндской, особенно выпивши вечером за ужином, что случалось с ним почти каждый день; он не отходил от нее больше ни на шаг, говорил только с нею,- одним словом, дело это быстро шло вперед в моем присутствии и на глазах у всех, что начинало оскорблять мое тщеславие и самолюбие; мне обидно было, что этого маленького урода предпочитают мне.
Однажды вечером, когда я вставала из-за стола, Владиславова сказала мне, что все возмущены тем, что эту горбунью предпочитают мне; я ей ответила: «Что делать!», у меня навернулись слезы, и я пошла спать. Только что я улеглась, как великий князь пришел спать. Так как он был пьян и не знал, что делает, то стал мне говорить о высоСтр. 561
ких качествах своей возлюбленной; я сделала вид, что крепко сплю, чтобы заставить его поскорее замолчать; он стал говорить еще громче, чтобы меня разбудить, и, видя, что я не подаю признаков жизни, довольно сильно ткнул меня раза два-три кулаком в бок, ворча на мой крепкий сон, повернулся и заснул. Я очень плакала в эту ночь - и из-за всей этой истории, и из-за положения, столь же неприятного во всех отношениях, как и скучного.
На следующий день, казалось, ему было стыдно за то, что он сделал; он мне об этом не говорил, я сделала вид, что не почувствовала. Мы вернулись два дня спустя в город; на последней неделе Поста мы возобновили наше говение; великому князю не говорили больше о том, чтобы идти в баню. С ним случилось на этой неделе другое приключение, которое немного его озаботило. В своей комнате в то время он был так или иначе целый день в движении; в тот день он щелкал громадным кучерским кнутом, который нарочно себе заказал; он размахивал им по комнате направо и налево и заставлял своих камер-лакеев шибко бегать из угла в угол, так как они боялись, что он их исполосует. Не знаю, как это он сделал, но, как бы то ни было, он сам очень сильно хватил себя по щеке; рубец шел вдоль всей левой части лица и был до крови; он очень встревожился, боясь, что ему даже на Пасхе нельзя будет выходить из-за этого и что императрица из-за его окровавленной щеки снова запретит ему говеть, а когда узнает о причине, то его щелканье кнутом навлечет на него неприятный выговор. В своем несчастии он поспешил прибегнуть ко мне за советом, что всегда делал в таких случаях.
Итак, он прибежал с окровавленной щекой; я воскликнула при виде его: «Боже мой, чтос вами случилось?» Он рассказал мне тогда, в чем дело. Подумав немного, я сказала: «Ну, может быть, я вам помогу; прежде всего идите к себе и постарайтесь, чтобы вашу щеку видели как можно меньше; я приду к вам, когда достану то, что мне нужно, и надеюсь, что никто этого не заметит». Он ушел, а я вспомнила, что несколько лет назад я упала в Петергофском саду, расцарапала щеку до крови и мой хирург Гюйон дал мне мазь из свинцовых белил; я покрыла царапину, не переставала выходить, и никто даже не замеСтр. 562