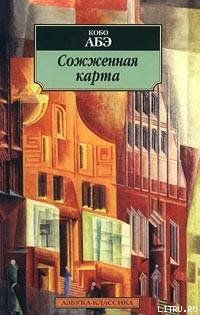как организация (это происходило и раньше – в 1952, 1955 и 1982 гг.), но и спроецировала военное влияние Америки вглубь Восточной Европы. Это, в сочетании с параллельным открытием ЕС на восток, усилило чувство отчуждения в России и ностальгию по великодержавному прошлому страны, особенно в связи с воспоминаниями о поражении Наполеона в 1812 г. и победой над Гитлером в Великой Отечественной войне. В любом случае, Россия всегда была двуликим Янусом – евразийской империей, охватывающей весь континент и обращенной как на восток, так и на запад, – и страной, исторически настолько ревниво относящейся к своему суверенитету, что вряд ли она готова когда-либо уступить хотя бы крупицу его НАТО или ЕС. Перспектива быть просто восточным придатком евроатлантического клуба неизбежно должна была стать оскорблением как для притязаний России на могущество, так и для ее чувства идентичности. Эти вопросы, вероятно, невозможно было решить даже с помощью самой деликатной дипломатии.
Но при всем при этом, достижения архитекторов мира после падения Стены были исторически беспрецедентными как по процессу, так и по результату. Вердикт, вынесенный Филипом Зеликовым и Кондолизой Райс в их книге 1995 г. о Европе и государственном управлении, остается в силе: «Лидеры, которые получили свой шанс, действовали умело, быстро и с уважением к достоинству Советского Союза. В результате у Европы остались шрамы, но нет открытых ран от объединения Германии. Это свидетельство умелого государственного управления». По сути, «Европа была преобразована всеобщим принятием западного статус-кво» [1825].
***
То, что последовало за этим переходом от холодной войны, часто описывается как эпоха однополярности. Однако, как мы уже видели, это слишком упрощенный взгляд. После мирного объединения Германии и Буш, и Горбачев исходили из того, что международный порядок остается биполярным, хотя теперь он имеет скорее характер сотрудничества, а не конфронтации. 11 сентября 1990 г. в обращении к Конгрессу Буш говорил именно о «возможности перейти к историческому периоду сотрудничества», который, по его мнению, будет «более свободным от угрозы террора, более сильным в стремлении к справедливости и более безопасным в поисках мира» – «мир, совсем не похожий на тот, который мы знали» [1826]. Это и было предпосылкой нового мирового порядка Буша, а также действительно замечательной многонациональной коалиции – от Сирии до Сенегала, от Великобритании до Бангладеш – которую он собрал, чтобы изгнать Саддама Хусейна из Кувейта и предпринять военные усилия, построенные вокруг столпов США и СССР и на основах международного права. Но, как наглядно продемонстрировал Кувейт, Вашингтон был доминирующей силой: Буш принял решение о войне, и Америка предоставила воинский контингент, материально-техническое обеспечение и технологии, необходимые для одержания победы за сто часов. Таким образом, в новом мировом порядке Буша Советский Союз на самом деле был младшим партнером Америки, а ООН, хотя и освободившаяся от паралича времен холодной войны, могла функционировать как миротворец только тогда, когда ее подпитывала американская мощь.
Таким образом, понятие кооперативной биполярности было в некоторой степени фиктивным, но в 1990–1991 гг. оно являлось важным фиговым листком, чтобы замаскировать упадок Советского Союза и облегчить переход СССР к капитализму и демократии. Буш отчаянно пытался сохранить рабочие отношения, которые сложились у него с Горбачевым. Возможно, эта зависимость от конкретной личной связи была одним из недостатков его крайне персонализированного и консервативного подхода к международным отношениям. И, возможно, Буш оказался недостаточно склонен к риску, успешно справившись с казавшейся непреодолимой задачей объединения двух Германий без конфликта. Учитывая, что Советский Союз просуществовал более семи десятилетий, трудно было представить, что он развалится менее чем за семь месяцев. Буш позже, чем некоторые из его специалистов по Советам, и даже позднее, чем его собственный госсекретарь, осознал, насколько шатким стало положение исторического антагониста Америки [1827]. Тем не менее он упорно придерживался подхода «фигового листа», чтобы создать новое постсоветское партнерство с Борисом Ельциным в первой половине 1992 г. – приветствуя Россию в Совете Безопасности ООН в качестве государства-преемницы СССР и увековечивая отношения G7+1 [1828]. Противясь триумфальной риторике однополярности, исходящей от сторонников неоконсерватизма, таких как обозреватель Чарльз Краутхаммер, Буш также был полон решимости довести переговоры о сокращении стратегических вооружений до завершения, кульминацией которых стало подписание Договора СНВ-2 в январе 1993 г. Конечно, эти инициативы предлагались с позиции силы: может, Россия все еще и оставалась ядерной сверхдержавой, но было трудно представить, что усеченная страна, умоляющая Америку о гуманитарной и финансовой помощи, когда-нибудь снова будет рассматриваться партнером, равным Соединенным Штатам.
Именно летом 1990 г., когда СССР капитулировал по вопросу членства объединенной Германии в НАТО, комментаторы начали рассуждать об «однополярном моменте» [1829] или о «формирующемся однополярном мире». Но, как утверждал Ричард Спилман, один-единственный «полюс», обладающий выдающимся магнетическим притяжением, – это не то же самое, что единственный «гегемон» – «иерархическая система, в которой доминирует одна сила, которая создает правила, а также обеспечивает их соблюдение». Он заметил, что «европейские ценности, которые поддерживают США, предшествуют нашему существованию и ограничивают наши имперские амбиции». Эти европейские ценности включали в себя основополагающее уважение к государственному суверенитету, независимо от типа правительства и ценностей, которые оно отстаивало. Оправданием для ООН войны в Персидском заливе в 1991 г. действительно было нарушение Ираком территориальной целостности Кувейта, а не характер режима Саддама Хусейна – или, если на то пошло, отношение эмира Кувейта к правам человека [1830].
Летом 1990 г. также ходили разговоры о зарождающейся «многополярности». По словам Чарльза Краутхаммера, «Германия превращается в региональную сверхдержаву в Европе, как и Япония в Азии». А преобразование Европейского сообщества в Европейский союз предполагало, что «Европа» также станет крупным международным стратегическим игроком. Ни один из этих сценариев не осуществился. По выражению Краутхаммера, Америка оставалась чем-то вроде «няньки» как Германии, так и Японии, не участвовавших в военных действиях в Персидском заливе и не получивших постоянного места в Совете Безопасности ООН. Что касается претензий ЕС как субъекта внешней политики и поставщика безопасности, то они были разоблачены как нелепые во время югославской трагедии. «Центром мировой власти, – писал Краутхаммер в зимнем номере журнала “Форейн эффэрз” за 1991 г., – является неоспоримая сверхдержава, Соединенные Штаты, в сопровождении своих западных союзников» [1831].
Но даже однополярным миром можно – по крайней мере, теоретически – управлять сообща. ЕС, Бонн и Токио приняли идентичность «гражданских держав», действующих в среде, ограниченной правилами. Как показала война в Персидском заливе, Америка Буша тоже продвигала вперед то, что немецкий политолог Ханнс Мауль назвал процессом «оцивилизовывания» международной политики во все более взаимозависимом мире [1832]. Эта идея вобрала некоторые из грандиозных амбиций Запада в конце Второй мировой войны – жить как мировое сообщество наций, придерживаться международного права, либеральных ценностей, ограниченного применения силы и наличия законной власти в качестве арбитра. Буш подчеркнул эти идеалы, когда объявил о начале операции