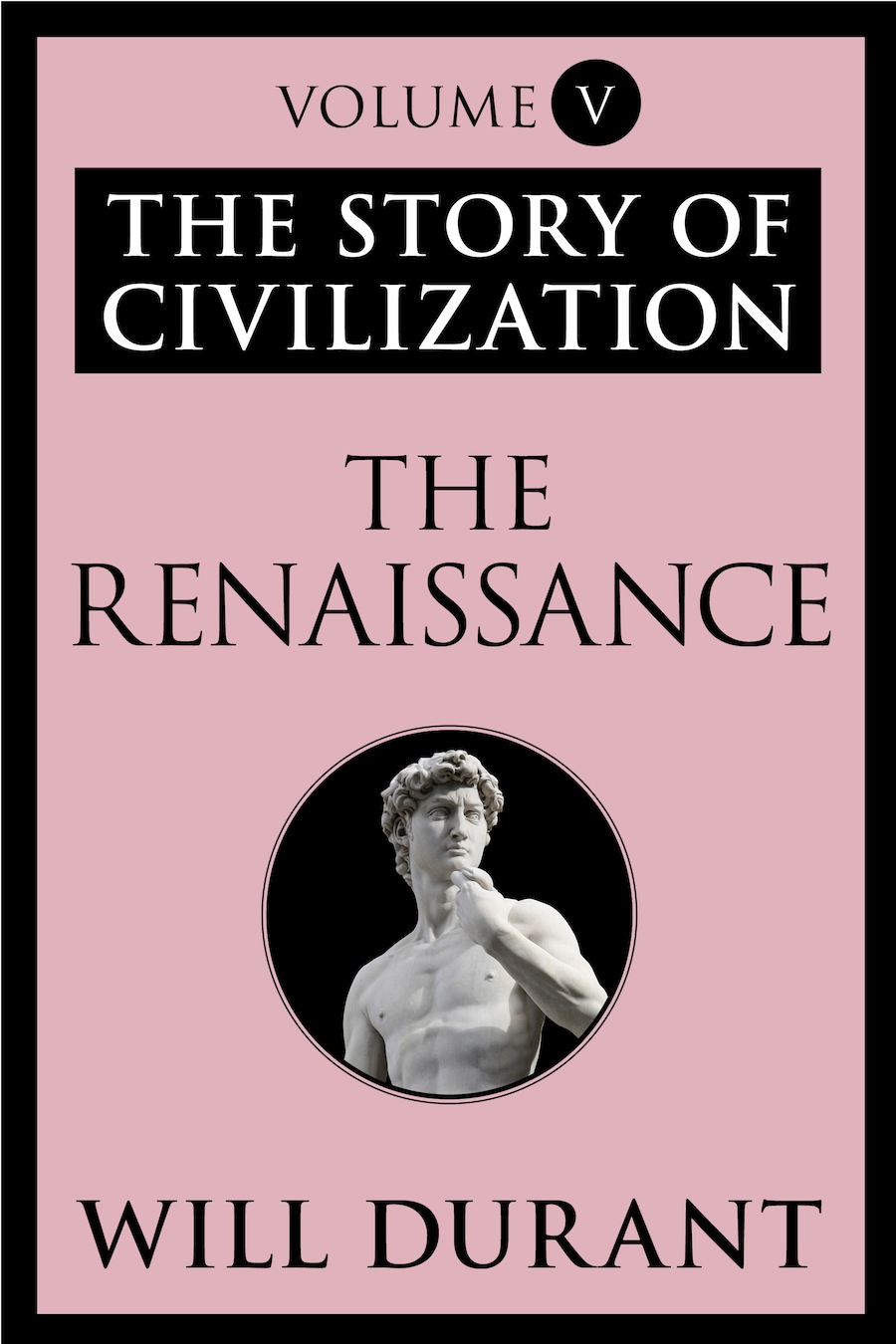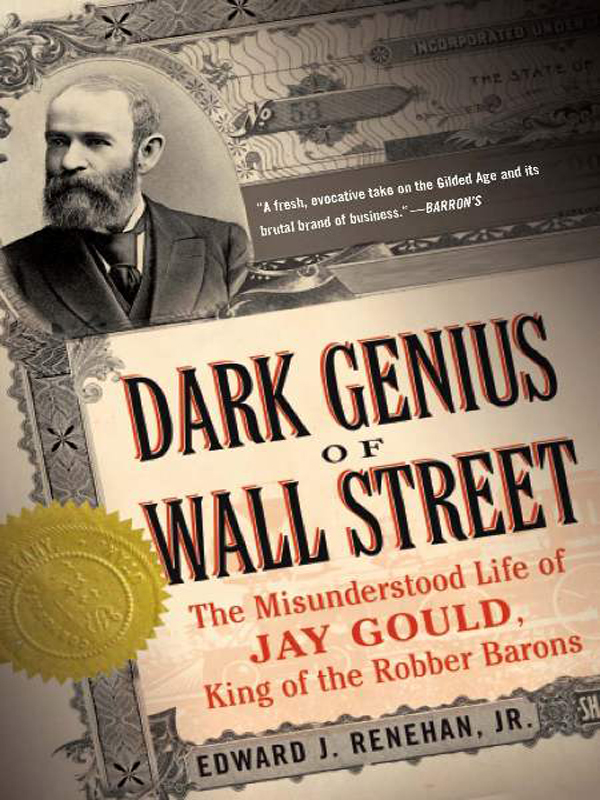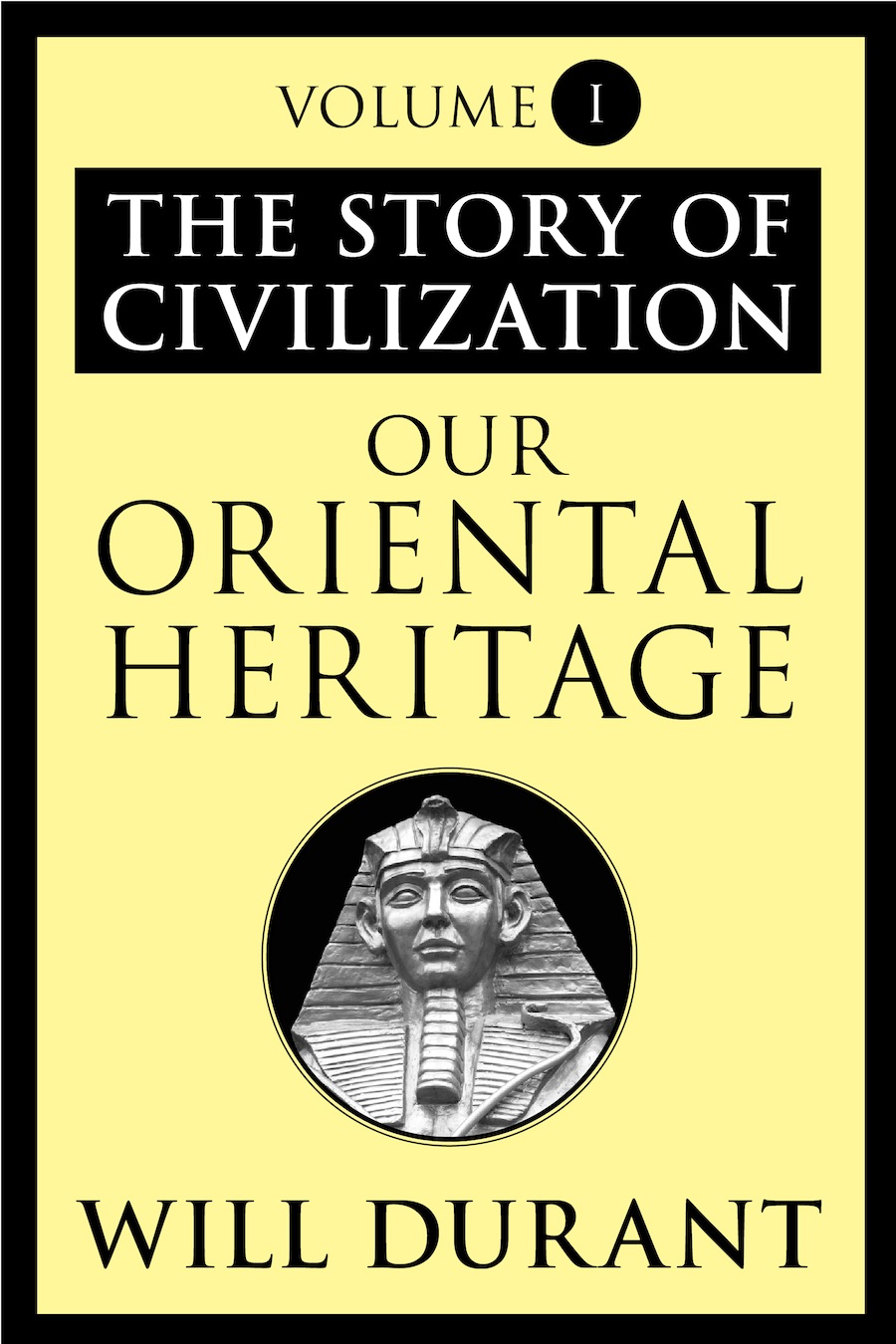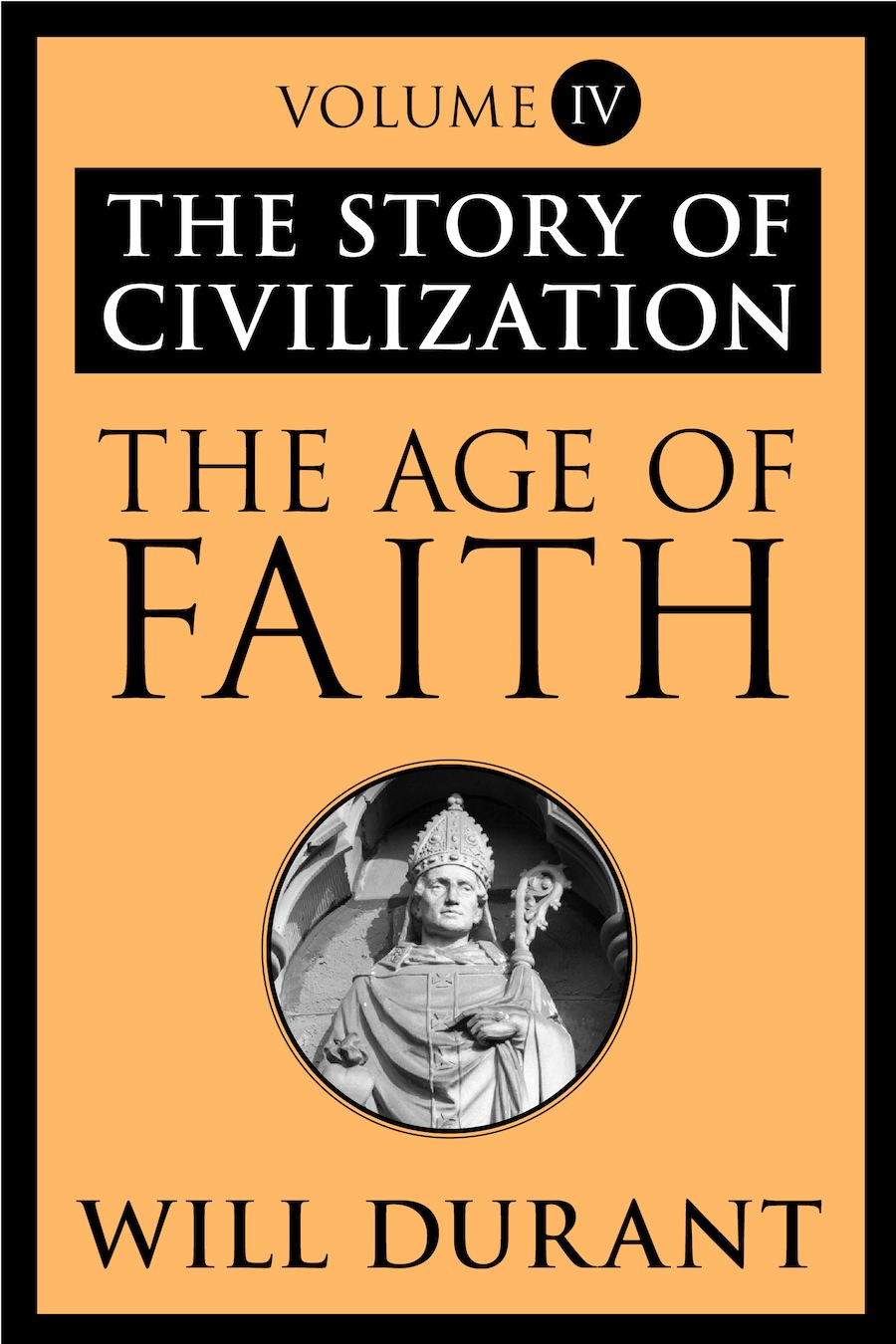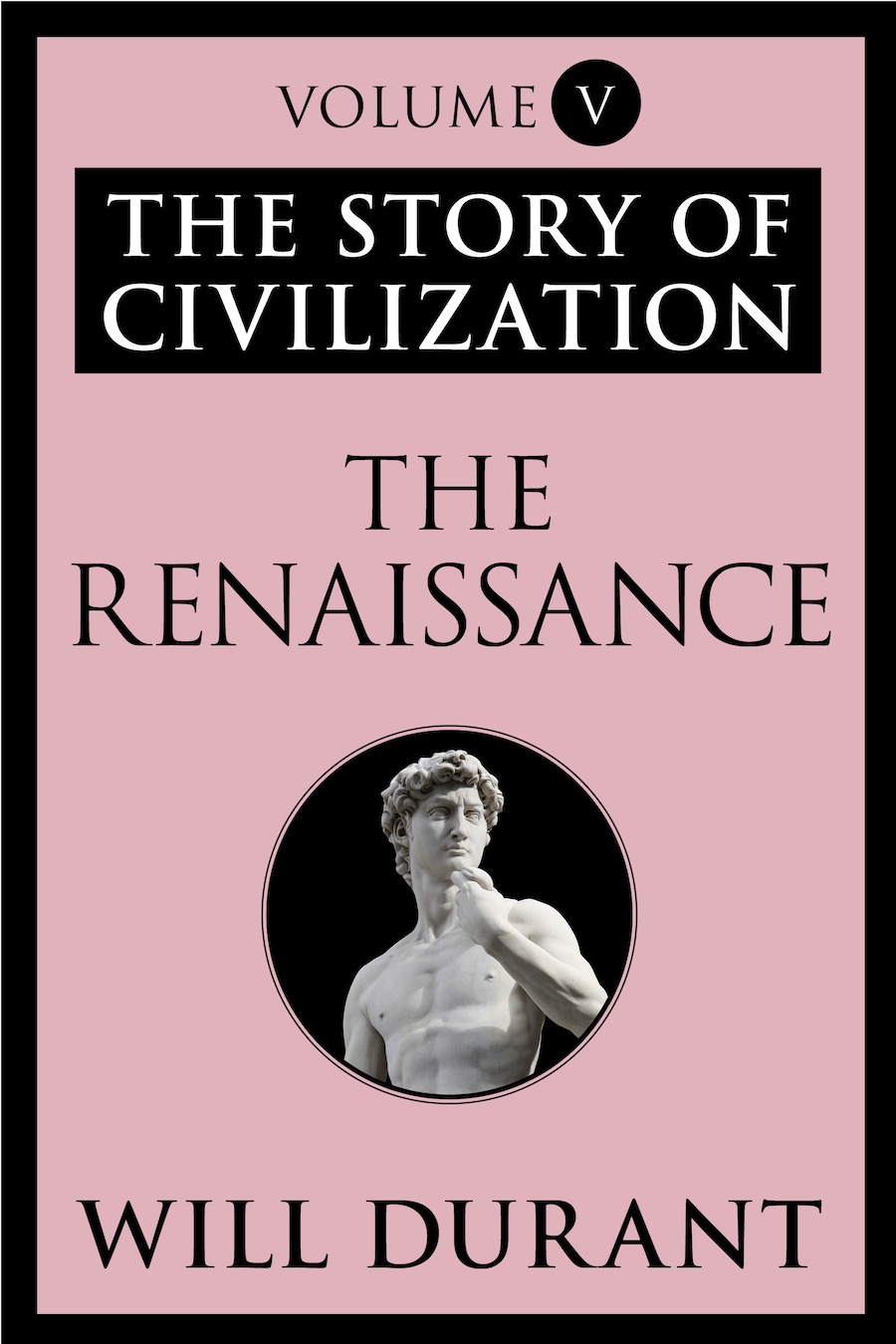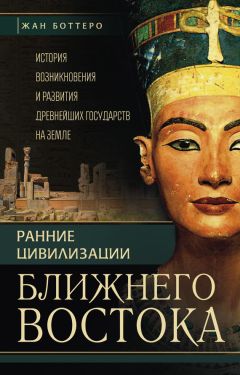посты в советах Льва и советовали ему, что выводы книги совершенно ортодоксальны; так оно и было. Лев не был одурачен; он прекрасно знал эту маленькую хитрость двух истин; но он довольствовался тем, что приказал Помпонацци написать приличное слово покорности.45 Пьетро подчинился, написав «Apologiae libri tres» (1518), в которой вновь утверждал, что как христианин он принимает все учение Церкви. Примерно в то же время Лев поручил Агостино Нифо составить ответ на книгу Помпонацци; поскольку Агостино любил споры, он выполнил это поручение с удовольствием и мастерством. Примечательно и, возможно, иллюстрирует сохраняющуюся антипатию между университетами и духовенством то, что, пока голова Помпонацци висела, так сказать, на инквизиторском балансе, три университета боролись за его услуги. Услышав, что Пиза стремится переманить его в свои залы, магистраты Болоньи, формально подчиняющиеся папе, но глухие к ярости францисканцев, подтвердили профессорское звание Помпонацци еще на восемь лет и повысили его годовое жалованье до 1600 дукатов (20 000 долларов?).46
В двух небольших книгах, которые он не опубликовал при жизни, Помпонацци продолжил свою скептическую кампанию. В «De incantatione» он свел к естественным причинам многие якобы сверхъестественные явления. Один врач написал ему об исцелениях, якобы вызванных заклинаниями или чарами; Пьетро запретил ему сомневаться. «Было бы смешно и нелепо, — писал он, — презирать видимое и естественное, чтобы прибегнуть к невидимой причине, реальность которой не гарантирована нам никакой твердой вероятностью».47 Как христианин он принимает ангелов и духов; как философ он их отвергает; все причины под Богом естественны. Отражая свое медицинское образование, он смеется над широко распространенной верой в оккультные источники исцеления: если бы духи могли лечить недуги плоти, они должны были бы быть материальными или использовать материальные средства, чтобы воздействовать на материальное тело; и он иронично изображает духов-целителей, которые спешат по улицам со своими атрибутами — пластырями, мазями и таблетками.48 Однако он признает определенные лечебные свойства некоторых растений и камней. Он признает библейские чудеса, но подозревает, что они были естественными. Вселенная управляется едиными и неизменными законами. Чудеса — это необычные проявления природных сил, чьи силы и методы известны нам лишь отчасти; а то, что люди не могут понять, они приписывают духам или Богу».49 Не противореча этому взгляду на естественную причинность, Помпонацци принимает многое из астрологии. По его мнению, не только жизнь людей зависит от действия небесных тел, но и все человеческие институты, включая религии, возникают, расцветают и разрушаются в зависимости от небесных влияний. Это относится и к христианству; в настоящее время, говорит Помпонацци, есть признаки того, что христианство умирает.50 Он добавляет, что как христианин отвергает все это как бессмыслицу.
Его последняя книга, De fato, кажется более ортодоксальной, поскольку является защитой свободы воли. Он признает ее несовместимость с божественным предвидением и всеведением, но стоит на своем сознании свободной деятельности и на необходимости предположить некоторую свободу выбора, если мы хотим, чтобы в человеке была хоть какая-то моральная ответственность. В своем трактате о бессмертии он столкнулся с вопросом, может ли моральный кодекс быть успешным без сверхъестественных наказаний и наград. Со стоической гордостью он утверждал, что достаточной наградой добродетели является сама добродетель, а не какой-либо посмертный рай;51 Но он признавал, что большинство людей можно побудить к порядочности только сверхъестественными надеждами и страхами. Поэтому, объяснял он, великие законодатели учили вере в будущее государство как экономичной замене вездесущей полиции; и, подобно Платону, он оправдывает привитие басен и мифов, если они могут помочь контролировать естественную порочность людей.52
Поэтому они придумали для добродетельных вечную награду в другой жизни, а для грешных — вечные наказания, которые их очень пугают. И большая часть людей, если они делают добро, делают его скорее из страха перед вечным наказанием, чем в надежде на вечное благо, поскольку наказания нам более известны, чем вечные блага. И поскольку это последнее средство может принести пользу всем людям, к какому бы сословию они ни принадлежали, законодатель, видя склонность людей к злу и желая общего блага, постановил, что душа бессмертна, не заботясь об истине, а только о праведности, дабы привести людей к добродетели.52a
Большинство людей, по его мнению, настолько просты умственно и настолько грубы морально, что с ними нужно обращаться как с детьми или инвалидами. Не стоит обучать их доктринам философии. «Эти вещи, — говорит он о своих собственных рассуждениях, — не следует сообщать простым людям, ибо они не способны воспринять эти тайны. Мы должны остерегаться даже вести беседы о них с невежественными священниками».53 Он делит людей на философов и религиозных деятелей и невинно полагает, что «только философы являются богами земли и отличаются от всех остальных людей, какого бы ранга и состояния они ни были, так же сильно, как настоящие люди отличаются от тех, что нарисованы на холсте».54
В более скромные моменты он осознавал узкие пределы человеческого разума и почетную тщетность метафизики. Он представлял себя в последние годы жизни изможденным и измученным размышлениями о том и о сем и уподоблял философа Прометею, который за то, что пожелал похитить огонь с небес — то есть ухватиться за божественное знание, — был приговорен к тому, чтобы быть прикованным к скале и чтобы его сердце бесконечно грызли стервятники.55 «Мыслитель, который допытывается до божественных тайн, подобен Протею….. Инквизиция преследует его как еретика, толпа насмехается над ним как над глупцом».56
Споры, в которые он вступал, изматывали его и подрывали здоровье. Он страдал от одной болезни за другой, пока наконец не решил умереть. Он выбрал тяжелую форму самоубийства: уморил себя голодом. Против всех доводов и угроз, одерживая победу даже над силой, он отказывался ни есть, ни говорить. После семи дней такого режима он почувствовал, что выиграл битву за право умереть и теперь может спокойно говорить. «Я ухожу с радостью», — сказал он. Кто-то спросил его: «Куда ты идешь?» «Туда, куда идут все смертные», — ответил он. Его друзья предприняли последнюю попытку уговорить его поесть, но он предпочел умереть (1525).57 Кардинал Гонзага, который был его учеником, перевез останки в Мантую и похоронил их там, а также, с типичной для эпохи Возрождения терпимостью, воздвиг статую в память о нем.
Помпонацци придал философскую форму скептицизму, который на протяжении двух веков атаковал основы христианской веры. Неудача крестовых походов; приток мусульманских идей через крестовые походы, торговлю и арабскую философию; перемещение папства в Авиньон