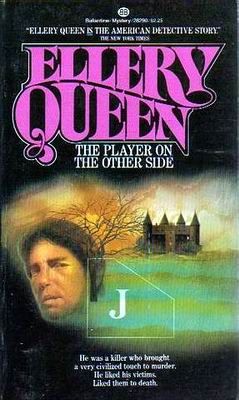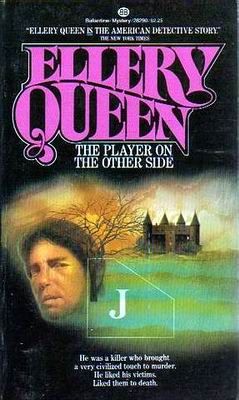«Война и Мир» Льва Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Герой нашего времени» и «Демон» Лермонтова, «Три сестры» и «Вишневый сад» Чехова, «Бесы» Достоевского, все эти имена и названия бросились мне в глаза из этой кучи на черной палубе и, машинально прочитывая названия, подумал я: «Война» с врагами внутренними, «Мир» с врагами внешними, «Татьяны Ларины» и «Онегины», «Наташи Ростовы», все эти «Анны Каренины», и милые Девушки Гончарова «Веры и Марфиньки», Героини Тургенева «Елены, Лизы», стоят здесь на юте, чтобы отплыть на чужбину, с ними уходит «великая Красавица Россия», царственная, полная величия и красоты. Она уходит от «Героя нашего времени» – грядущего и пришедшего «Хама», «Бесы» Достоевского овладели Русской землею и «Мертвые души» Гоголя наполнят ее города. Развернется широко «Фома Гордеев» и затопчут «Босяки» Горького русскую культуру. Воцарится на родной земле «Царь Голод» Леонида Андреева и со смехом пропляшет жизнь «его» человека.
Красный «Демон» Лермонтова будет соблазнять Чистую «Тамару» и обратит ее взор молитвенный от Святой Иконы на свое лицо. Люди «Мертвого Дома» Достоевского, сбросив цепи с себя, закуют Россию в цепи свои, обратят богатый, чудный край в «Мертвый Дом» и кладбище…
Не оправдалась мечта Чехова: не расцвел «Вишневый Сад» на Руси, не нашел «Дядя Ваня» своего отдыха, не утешились «Три Сестры» – Девы русские.
Не зацвела «зеленая палочка» Левушкой Толстым посаженная среди трех берез, – не настало на Руси Царства Божия. «Волчьей ягодой», ядовитою, красною покрылась русская земля и наелись ею голодные. Отравилась любовь. Заменилась она братоненавистничеством.
Так говорили книги, кучею наваленные. Нарастала новая – книги учебные по 24 учебным предметам. И не знали еще тогда, грузившие их кадеты, грузчики, что пройдя все эти предметы и добавочные: носильщика, маляра, повара, портного и прачки они, еще, быть может, и не дойдут до офицерского чина; а будут только рабочими на фабриках или шофером такси; они ведь шли в полную неизвестность.
Поздно вечером баржа Морского Корпуса была выгружена и медленно покачивалась черная и пустая у высокого борта «Генерала Алексеева».
Усталые и замотанные, не чувствуя больше ног под собою, кадеты поели, на скорую руку, консервов, корнбифа, хлеба и чая и, как снопы, свалились все в повалку прямо на палубу отданного им каземата, подложив себе под голову сложенный бушлат. У книг, цейхгауза и бочек сала сменились кадеты-часовые. В полутьме железного каземата, где в углу светил одинокий масляный фонарь, заснули усталые труженики мертвым сном.
Женское население дредноута после долгих бесед, споров, беспокойств и расспросов тоже утомленное и взволнованное непривычкой обстановкой громадной стальной плавучей крепости с ее башнями и пушками, палубами и кубриками, после белых светлых флигелей с теплыми и уютными квартирками и привычной жизнью на твердой земле, тоже спустилось в отведенные помещения в кормовом отсеке и улеглось спать в повалку с детьми и с вещами.
Я сидел в это время в одной из канцелярий корабля в носовом отсеке и писал список своих кадет со всеми нужными сведениями. (Динамо-машина еще не работала). Близко перед лицом стоял фонарь. Я писал, ослепленный его светом в окружающей меня тьме. Вошел матрос и доложил:
– «Г-н Капитан 1-го ранга, Адмирал вас требует к себе в кормовую каюту».
Я быстро собрал списки, встал, поднялся на верхнюю палубу. Было темно, как в туннели. Море черно. Небо черно. Ни луны, ни звезд. По черной, шершавой от угля, палубе я, ослепленный еще светом канцелярского фонаря, быстро пошел на корму. На мне была еще походная форма и бинокль через плечо (с утра не успел еще раздеться). Прошел несколько шагов по палубе в полной темноте и вдруг… палуба исчезла из-под моих ног, стало совершенно темно; я летел, летел вниз далеко, глубоко, уперся ногами во что-то хрупкое, черное, поднявшееся пылью к лицу. И остановился. «Господи!» – подумал я: «Что это со мною? где я?» – Встал, осмотрелся, ощупал кругом. – «Да это угольная яма! Вот, куда я попал!»
В эту секунду высоко надо мною, волокли два матроса по верхней палубе 6-ти пудовый мешок с углем и готовились сбросить этот груз в горловину ямы, в которой я сидел. С такой высоты 6 пудов на голову – верная смерть. Потом вместе с углем в раскаленную топку; и никто никогда не узнает, куда и когда исчез Ротный Командир Кадетской роты, не узнала бы и семья его, укладывавшаяся на покой в глубоком полутемном кубрике в эту роковую для него минуту.
«Господи! спаси, от такой бесславной смерти!» – пронеслось в моей голове, и, пользуясь угольной многоэтажной трубой, как громадным рупором граммофона, я закричал наверх:
– «Подождите, не бросайте, здесь живая душа, которая жить еще хочет!»
– «Стой, слышь», – сказал наверху матрос и 6 пудовый мешок остановился у самого края горловины. – «Там никак человек, в яме-то», – сказал матрос и с ручным фонарем заглянул в глубину моей железной ямы.
– «Лазить умеешь, я конец тебе спущу», – сказал он.
– «Давай конец! Я вылезу!» – ответил я из глубины.
Толстый смоленый трос медленно спускался по узкой трубе и змеей укладывался на широком подносе гладкого и скользкого железа.
– «Достал?» – спросил голос сверху.
– «Не могу дотянуться по лотку; вижу трос, да не достать! Гладко, скользко; не за что ухватиться», – ответил я снизу.
– «Подожди, я к тебе спущусь», – сказал матрос и быстро скользнул по тросу на поднос. Ловко ногою сбросил мне конец. Фонарь освещал трубу.
Как кошка вцепился в трос моего спасения и с ловкостью гимнаста в несколько секунд на одних руках достиг я палубы и вдохнул полною грудью свежий ночной воздух; сердце радостно билось, «бесславная» смерть отлетела далеко. Матрос за мной выбрался из угольной ямы. Всмотрелся. «Да это офицер!» – воскликнул он вполголоса.
– «Со свету не разглядел я вашей ямы», – ответил я: – «спасибо, братец, спаси тебя Господь!»
Уже осторожным шагом и всматриваясь во все предметы в черной темноте пробрался я в каюту Адмирала и доложил ему об устройстве кадет на корабле, о выгрузке баржи и представил их списки. Затем прошел повидать семью, с которой чуть было навсегда не разлучился.
Простившись с ними на ночь, спустился я в каземат моей роты и, осторожно переступая через тела кадет, добрался к рундуку под фонарем, где их заботливые руки приготовили мне койку.
Сбросив пальто и амуницию, я повалился на рундук и забылся сном тревожным и чутким. Но заснуть надолго не удалось. Несколько раз в ночь инспектор требовал новые смены выгружать; приходили катера с гардемаринами, что-то еще привезли из порта, из Морского Собрания.
На палубе закончили погрузку угля. Баржи оттянулись. В темноте подходили портовые катера, разрезая ночной воздух, резкими свистками.
По палубе забегали люди, подавая буксиры, поднимая шлюпки.
Из Севастополя в открытые иллюминаторы доносился гул и шум: там у пристаней и на рейде шла спешная погрузка угля, воды и тысяч беженцев.
На набережной кричали люди, прощаясь с родными на пароходах. Там, в недрах Октябрьской ночи, разрывались сердца и души, отрывались и сцеплялись руки, горячие, сладкие поцелуи смешались с горькими и едкими слезами.
Ломались Семьи, Дружба, Любовь, привязанности и привычка.
Уезжал молодой внук, оставалась старая бабушка, уезжал муж, оставалась жена, уезжали дети, оставались родители, уходили отцы, оставались дети, уезжал жених – рыдала его невеста, на груди у друга плакал старый друг… Провожала сестра дорогого брата.
Происходило то, что предсказал Господь:
«Будут двое жать на поле: одна возьмется, другая останется».
«Будут двое на одной постели: один отнимется, другой останется».
Махнув рукой на всякий сон, я вышел на верхнюю палубу.
Она была вся залита луною. И черный уголь казался серебром.
По темно-синему небу, ветер крутил нежные вуали вокруг луны, то закрывая ее облаками, то очищая от них насмешливо ласковый лик.
Черная вода выпуклыми черными валами пробегала мимо дредноута и жидкое расплавленное серебро лунных лепешек скользило с волны на волну. На палубе «Генерала Алексеева» суетились люди, приготовляясь к съемке с якоря. В лунном сиянии виднелись буксиры под носом корабля. На баке гремели тяжелые канаты крутясь на шпиле. Гул и рев толпы на пристанях становился все сильнее, поминутно раздавались гудки и свистки готовых к отплытию пароходов.
К голубому лунному свету вдруг прибавились красные блики, как будто в молоко влилась кровь. Я оглянулся на город. На берегу недалеко от места, где мы стояли на рейде, ярким желто-красным столбом взвилось к ночному черному небу пламя большого пожара. Загорелся какой-то склад очень горючего тела. К реву толпы, свисткам пароходов, к портовым гудкам прибавился звон набата и все это с грохотом якорного каната смешалось в дикий хаос ночных зловещих звуков. Под эту дикую музыку ночи, подтянув якоря под клюзы, покинул «Генерал Алексеев» родной рейд города Севастополя. С высокого неба мерцали печальные, ласковые звезды; с загадочной улыбкой смотрела луна. Жаркое пламя терзало склады, у которых больше не было часовых.