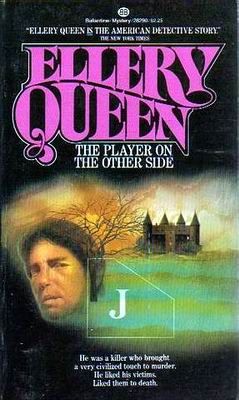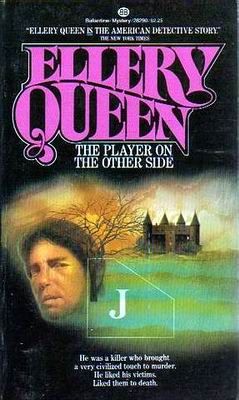На далекой Северной стороне, у белых скал Инкермана, на высокой темной горе – в голубом лунном сиянии, точно видение града Китежа – стоял белый дворец Морского Корпуса; сердцем и душою прощался я с ним, стоя на корме уходившего в море дредноута.
В эту ночь отошел он недалеко, он только вытянулся из внутреннего рейда за боны, мимо форта и вскоре отдал якорь на внешнем рейде.
Высоко над горою Морского Корпуса светили Инкерманские маяки, ласковым светом своим посылали ему прощальную улыбку. Так честно и верно они служили Черноморскому флоту, указуя путь в город Севастополь до последней минуты. Нина-Ундина маяка дежурила в эту ночь в хрустальном куполе своей белой башни и освещала путь отходившим кадетам, тогда то, в горах, спасшим ее от «разбойника».
Под утро потух пожар, луна закатилась за море, корабли нагрузились углем и людьми. Разошлись остающиеся по домам, затихли свистки, умер набат, облака порозовели. Пробираясь, через тела кадет, добрался я снова до койки и лег.
В тишине заснувшего корабля по темным трюмам, по бимсам казематов, кубриков и кают офицерских, медленно и цепко скользя по железному дому, выползли старые и молодые рыжие и черные крысы, и шевеля усами, сверкая красными глазками, пошли в ночной дозор осматривать корабль и жирную поживку: 2 бочки с салом, консервы и муку. С ужасом смотрели на них бедные девушки и женщины, которым так и не удалось заснуть в эту страшную ночь. Они, которые на земле боялись малой мыши, здесь на воде увидели крыс.
– «Боже! Куда деваться?»
– «Не бойтесь, барышня, они не кусаются», – ответил привычный матрос.
На носу дредноута, на баке, в носовых казематах разместились казаки, артиллеристы и кавалеристы разных белых полков, пришедших с Дона, с Кубани, с Перекопа из батарей, крепостей и окопов. Усталые, измученные походами и долгой боевой работой, они спали под утро мертвым сном, ибо участвовали и в угольной погрузке и в кочегарке и по всему кораблю. Те, кто не стоял в машине и на вахте, спали теперь крепко; но и во сне почесывались. Земля, окопы, поля и леса снабдили их зверем страшнее крысы и этот зверь с их тел и одежд расползся по всему кораблю во все казематы, каюты и кубрики. И на другую ночь почесывались флотские офицеры, гардемарины, кадеты и нежные дамы, барышни и дети и далеких Адмиральских кают. Эта бледная, тихая, жирная вошь пряталась днем в сукне, в белье, в батисте, в кружевах, в грубых носках и ажурных чулочках; а ночью скребла и сосала с одинаковой лютой жадностью закаленную кожу Донского казака и нежный атлас Севастопольской девочки. Этот зверь, страшнее крысы, был бичем беженства от осеннего Севастополя до знойной Африки, где горячие бани, обтирания маслами и паровые дезинфекторы французских врачей еле справились с нею и освободили страдальцев.
Рано утром следующего дня в одном из больших железных казематов, у большого медного круглого умывальника, все с засученными рукавами, точно в пестром хороводе мылись друг подле дружки: офицер, барышня, кадет, дама, матрос кочегар; лилейные ручки с золотой браслеткой намыливались рядом с крепкими, волосатыми мускулистыми руками и, несмотря на великое горе оставления Родины полунищим беженцем, в это последнее утро у «общественного колодца» шел веселый и бодрый говор и смех. Запах розового мыла смешался с запахом машинного масла.
Между фок и грот мачтами на верхней палубе сложили утром высокий плотный куб из корзин, сундуков, тюков и чемоданов беженцев и покрыли его толстой парусиною и приставили к нему кадета с ружьем – часовым охранять «господское барахло», как окрестили этот куб Алексеевские матросы.
Но погрузка еще не окончилась.
То и дело приходили из порта буксирные пароходы, шлюпки и баржи, груженые обувью, амуницией, ружьями, походными кухнями и даже автомобилями. Два темно-синих лакированных, с зеркальными сверкающими стеклами и никелированными фонарями высоко поднимались и опускались у борта на разгулявшейся волне.
Старший офицер хватался за голову и разводил руками, не зная, как и куда разместить все это необычное и странное столпотворение из людей, вещей и животных.
Барские и матросские собаки бегали по палубе. На баке у носовой башни мычали три корпусных коровы. Забитые в клетки и ящики, кричали петухи и куры.
С палубы на плясавшие баржи неслись крики и брань. Только к вечеру нагрузившись, до отказа, и задымив одной трубой «Генерал Алексеев» снялся с якоря и медленно-медленно двинулся могучей серой бронированной массой в темную даль, разрезая стальным форштевнем тоже могучие черные волны.
Было 10 часов вечера последнего дня октября, когда Белые Армии, флот и их семьи покинули родную землю и вместе с горючими слезами жгучей боли расставания с Матерью-Родиной, которыми обливались тысячи сердец этих Русских людей, в тех же сердцах билась тайная радость, дрожало ликование, что вот наконец-то ушли, спаслись, вырвались на волю из лютых когтей красного «Человека-зверя».
Крестились, плакали, улыбались, смеялись, не отрываясь смотрели, стоя обнявшись на темной корме, на тонувшие берега Инкерманских и Мекензиевых гор, на мерцавшие огни родного города Севастополя.
Все дальше и глубже в черную ночь уходил линейный корабль, прислушиваясь по радио к приказаниям Белого Адмирала на крейсере «Генерал Корнилов», наблюдавшего в Севастополе за выходом своего флота. Всю ночь один за другим выходили из порта груженые доверху корабли белой эскадры и силуэты их исчезали в ночной темноте. Невидимыми нитями беспроволочного телеграфа были они все связаны с рубкою Командующего последним Черноморским флотом.
А он спокойный и твердый властно вел их по Черному морю на юго-запад к далекому Босфору к заветным вратам ЦареГрада. Последним покинул он родной Севастополь, когда убедился, что все они вышли из обреченного города. Под крылом его находилась и душа Белых Армий – Генерал барон Врангель, Начальник его штаба Генерал Шатилов и другие чины его штаба.
Прошла и эта ночь и, засиявшее на востоке, ликующее солнце осветило лишь темно-синюю, как сапфир равнину моря и, опрокинутый над нею, бирюзовый купол ясного утреннего неба. В небе летали белые чайки. По морю шли стальные корабли. В волнах кувыркались дельфины. Люди на палубах любовались их игрою, цветом моря; грелись на солнце, и тихая радость спасения согревала их сердца. Доверчивой благодарной мыслью они устремились к своему Адмиралу и верили теперь твердо, что будут спасены.
Так плыли они день, два, пятые сутки; все небо да море, сапфир и бирюза.
Ни земли, ни скалы, ни островочка.
Наступило 6-го ноября День Св. Павла Исповедника – праздник Морского Корпуса.
На корме парадный Аналой. Стоят во фронте офицеры, гардемарины и кадеты. Тут же дамы, барышни и дети.
Епископ Вениамин служит торжественный молебен, поет свой хор кадет и вольною птицей несется молитва в открытое небо.
В походной кухне славного отряда Рыкова сварен жирный суп и в нем, несмотря на всю тогдашнюю бедность, плавает «традиционный» гусь.
Дамы и барышни жарят кадетам «лепешки» на мангалке в придачу к ежедневному корнбифу. Белые жирные лепешки взамен ломтя обычного черного хлеба. Вот и отметили праздник Корпуса бедные, бездомные, беженцы-переселенцы. Впрочем «дом» еще есть! Есть еще и Россия! Пока на родном корабле, под сенью Андреевского флага – это все еще родная земля, это все еще Россия! Так думают эти люди на стальном корабле среди спокойного синего моря. Поберег их Господь до Босфора. Не дал кораблям раскачаться, не увлек их на темное дно с роковою их перегрузкою, да с пустыми и легкими трюмами.
Наступила ночь и прошла. Снова взошло солнце. Земля! земля! – закричали на баке «Генерала Алексеева».
Лиловая волнистая полоса в голубой утренней дымке показалась на горизонте по носу корабля. «Анатолийский берег Босфора», – сказал штурман на высоком мостике.
С каждой минутой, с каждым шагом винта дредноута все явственнее вырисовывались сизые горы и предметы на них.
Деревья, первые здания. И вот, наконец, засверкала узкая серебряная полоска между этими горами, сверкнула и убежала в глубь.
Чрезвычайно изрезанный живописными бухтами, скалами, мысочками, бухточками, Босфор лежал наконец перед ними.
«Генерал Алексеев» остановился, медленно и важно покачиваясь на длинных выпуклых волнах. Черное море, вливаясь в Босфор, тянуло сильным течением.
На баке забегали матросы, приготовляя перлиня для буксиров.
Выплясывая трепака на воде, к носу его подошел буксир «Илья Муромец» и приняв толстые тросы с «Алексеева», завернул их на чугунные кнехты. Пронзительно засвистел и дал ход машине. Другой буксир ответил под кормой и стал сдерживать могучую корму, под которой крутилось течение. Пошли к Босфору.
Вдруг на палубе «Ильи Муромца» появился высокий, бравый Генерал, молодой, румяный, полнолицый. Белая папаха лихо сидела на его голове, красные шаровары горели на солнце; расставил широко крепкие ноги в высоких сапогах, белый ментик свисал с плеча. Он громким голосом, весело и бодро закричал: «На «Алексееве»! передайте: – Генерал Слащев на «Илье Муромце» приветствует «Алексеевцев» с благополучным приходом!» – Командир с мостика передал привет Защитника Крыма своей команде и всем запрудившим палубу людям; но гробовое молчание воцарилось на палубе и лица выражали боль и недоумение, точно тронули их раскрытую рану: «Крым»… «Севастополь»… нет! не надо! не будем вспоминать!., не тревожьте больного!.. Еще так свежа, так горит эта рана!