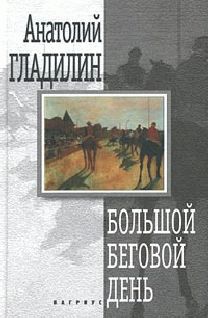Мышкин и Супинская опоздали, их сразу посадили за стол, даже не успев представить собравшимся.
Если бы случайный посетитель заглянул в квартиру Аркадакских, он бы только позавидовал веселью молодежи. (Если бы заглянула полиция, то тоже не нашла бы ничего предосудительного.) Но Аркадакские пригласили не случайных гостей. И хотя Мышкин не знал более половины присутствующих, можно было догадаться, что все это проверенные люди, которым не сегодня-завтра предстоит отправиться «в народ». Как «генералы на свадьбе», сидели Кравчинский и Рогачев. Они уже ходили по Тверской губернии, «возмутили» целую волость, их арестовали, но они бежали из-под стражи и теперь, естественно, были в центре внимания.
Поначалу как будто все поклялись не касаться серьезных тем, но постепенно разговор принял иной оборот. В общем гуле голосов все настойчивее прорывались названия приволжских городов и уездов. Кто-то цитировал отрывки из прокламации Шишко «Чтой-то, братцы».
— Куда направляемся, коллега? — спросил у Мышкина его сосед справа, лохматый розовощекий студент. Мышкин сделал неопределенный жест:
— Пока в Москве.
Студент взглянул на Мышкина с явным сожалением и похвастался:
— А я с артелью ухожу в Нижний.
— Петька, — крикнул студенту приятель с другого конца стола, — слышал новость: у нас в Москве открылась тайная типография.
— Не мели языком! — прервал его студент и, обращаясь к Мышкину, с деланным равнодушием добавил: — Молод еще, болтает, а чего болтает — сам не знает.
Слева худой юноша в очках горячо доказывал Супинской:
— Мы забыли, что Стенька Разин и Пугачев были крестьянами.
— Не крестьянами, а казаками, — поправили его.
— Какая разница? — пожал плечами юноша. — Те и другие землю пашут.
В углу, где сидел Войнаральский, зазвенели громкие голоса спорящих.
— Господа, мы совершаем непростительную ошибку. Мы прекратили агитацию среди фабричных.
— И правильно! Россия — крестьянская страна.
— Маркс писал, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей.
— Это в Европе пролетариат, — вставил ехидный голос, — а русский мастеровой свои цепи в кабак заложил, за полштофа водки. Надо запретить вино, тогда и в Москве революцией запахнет. Предложи такой закон правительству.
— Неправда, — возмущалась девушка, — ткачи на нашей фабрике по субботам книжки читали…
— А иначе как за вами поухаживаешь? — парировал тот же голос.
— Господа, — заговорил Кравчинский, и спорящие притихли. — Помните: наш народ прост, добр и доверчив. Он встретит вас с открытым сердцем. В любой избе мы с Димитрием находили внимательных слушателей. Крестьяне даже отказывались брать деньги за ночлег. В деревнях живут крайне бедно: сахар «вприглядку», мясо в щах — по большим праздникам. В один из первых дней, когда у нас еще оставалась городская провизия, мы положили на стол колбасу — как на заморское чудо глядели. Мы поделили на всех, так они есть не осмеливались. Нет, господа, о нищете народа не рассказать — ее надо видеть собственными глазами. И поймите главное: мужик испокон веку привык, что его секут, бьют по зубам, ему приказывают. Он абсолютно бесправен, все, кому не лень, дерут с него три шкуры: лекарю взятку, подьячему взятку, писарю положи «на лапу», становой приезжает — опять поборы. И вдруг появляются люди, которые разговаривают с мужиком уважительно, которые объясняют мужику, что он сам хозяин земли, что стоит только крестьянам объединиться — и они возьмут власть в свои руки. Не поверите, господа, но нас принимали за настоящих апостолов божьих. Если бы мы захотели поднять бунт немедленно, то запылали бы барские усадьбы.
…У Аркадакских собралось человек двадцать пять. Еще недавно спорили, шутили, делились планами на будущее. Теперь все притихли и старались не пропустить ни одного слова Кравчинского. Кравчинский говорил зло, уверенно. Слушая его, Мышкин впервые пожалел, что связан с типографией и не может вместе с товарищами пойти по деревням: пробил великий час, начиналось решительное сражение, а Мышкин в арьергарде, в обозе. Товарищи поведут за собой восставших крестьян, а Мышкину остается только печатать книги…
Он покосился на Супинскую. Глаза Фрузи сияли.
И она тоже восхищалась Кравчинским: не отрываясь, смотрела на него.
— А как вам удалось обмануть стражу? — раздался чей-то робкий голос.
— Обманывать никого не пришлось, — ответил за Кравчинского Рогачев. — Нас арестовал староста по приказу станового и выделил для сопровождения самых надежных мужиков. По дороге разговорились, видим — ребята подобрались степенные, чтут бога и начальство. Ну а Сергей Михалыч им «Святое писание» наизусть шпарит, он же дока по части Библии. Мужики слушают, затылки чешут. Все, что мы ранее по избам рассказывали, не противоречит христианским заповедям. «Непорядок, — шепчутся мужики, — хороших людей в „кутузку“ сажают». Проходили большое село, а там храмовый праздник. Наш конвой встретил знакомых и, конечно, соблазнился дармовой выпивкой. В каждой избе подносили нам брагу. Мы только делали вид, что пьем, а конвойные все больше хмелели. К вечеру из села не выбрались, заночевали.
Нас с Сергеем заперли в сарае, да самый молодой из конвойных шепнул, что замок вешать не будут, так, для приличия, двери палкой подопрут. В полночь мы свободно ворота отворили и к утру верст двадцать отмахали. Как раз к поезду на станцию успели. Отсюда мораль, господа: мужика не надо бояться. Мужик не выдаст.
…Никак не удавалось Мышкину переговорить с Войнаральским. Порфирий Иванович ни на шаг не отходил от Кравчинского. Они сидели, отделившись от общества. Войнаральский что-то горячо доказывал Сергею Михайловичу. Кравчинский ничего не пил, покусывал губы и нервным движением пальцев ломал спички.
Мышкин и Супинская покинули общество так же незаметно, как и появились. На их исчезновение никто не обратил внимания.
Они возвращались по ночному Арбату. Накрапывал дождь, в лужах отражались огни редких газовых фонарей. После шумной компании странным казалось, что обыватели мирно спят в своих домах и не подозревают о грядущих событиях.
— Зачем Кравчинский приехал из Питера? — спросила Супинская.
— Ему нужны помощники. Готовят чей-то побег из тюрьмы. Но, — с неожиданной для себя горечью добавил Мышкин, — в подробности сего предприятия посвящены лишь избранные. Мы же не из их числа.
— Ты обиделся, как ребенок, — мягко сказала Фрузя и попыталась дотянуться до его лица. Мышкин резко отстранился.
Да, он обиделся. В конце концов, когда речь идет об освобождении товарища, когда наконец затеяно настоящее дело, то почему-то забыли, что Мышкин не только удачливый предприниматель-типограф, он в первую очередь военный, унтер-офицер. Он умеет владеть оружием, смел, энергичен. Никто не понимает, что он, Мышкин, рожден для действия, а не для разговоров.
«Россия казалась нам тогда пороховой бочкой, — отстукивал он Попову. — Требовалась лишь искра».
«Противоречишь самому себе, — отвечал Попов. — Давеча говорил, что четко понимал расстановку сил».
Тонкие книжки для брошюровки отправлялись в Пензу. В Саратове открылась «сапожная мастерская», куда под видом башмачного товара Мышкин переправлял ящики с готовыми листами толстых книг. Саратовской мастерской заведовал мастер Пельконен, к нему на помощь уехали Юлия и Елена Прушакевич.
Несмотря на поддержку Саратова и Пензы, положение в типографии было крайне напряженным. Для печатания нелегальной литературы не хватало людей. Мышкин совсем забросил стенографию, днем правил корректуру, а по ночам, запершись в «секретной» комнате вместе с Супинской и Фетисовыми, изготовлял бланки фальшивых паспортов и других подложных документов.
Ермолаева и Заруднева набирали «Историю одного из многострадальных» (сокращенный перевод с французского «Истории одного крестьянина» времен революции 1789–1794 годов) в общем зале. Это было рискованно. Новым рабочим, в спешном порядке принятым с улицы, Мышкин не доверял. Наборщица Левшина проявляла излишнее любопытство к «секретной» комнате. Мышкину пришлось намекнуть на свою интимную связь с Фрузей. Но это возбудило еще большие подозрения. Действительно, если «секретная» предназначалась для ночных свиданий, то при чем тут супруги Фетисовы? В довершение всего цензура конфисковала ранее официально разрешенные брошюры «Об отношении господ к прислуге». Это накалило обстановку в типографии. Девушки передавали, что Левшина распространяет слухи, будто хозяин печатает «запрещенное». Рабочие боялись, что их привлекут к уголовной ответственности за «недоношение властям». Входя в общий зал, Мышкин ловил на себе косые взгляды.
Неприятный осадок оставил разговор с цензором. Цензор был предельно вежлив, по категоричен. Конечно, он сочувствует господину Мышкину, понимает, что типография несет материальный ущерб, однако ничего поделать не может: весь конфискованный тираж уничтожен. Мышкин сказал, что будет жаловаться, слава богу, он вхож к его превосходительству. Цензор тонко улыбнулся и вскользь заметил, что давно не видно Ипполита Никитича в комитетах; какие неотложные дела мешают вести стенограммы? Его превосходительство наверняка помнит услуги, оказанные господином Мышкиным, только в данном случае указания исходят от другого ведомства. Мышкин поспешил откланяться. Что ж, цензор недвусмысленно предостерегал: типографией заинтересовалось жандармское управление.