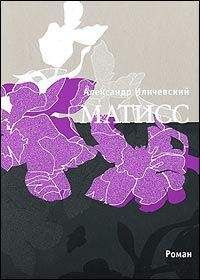Дион Кассий характеризует Гая как совокупность противоречий, его единственным постоянным качеством было непостоянство.[100] Поэтому, запретив сначала римлянам устанавливать себе статуи или скульптурные портреты, позже он приказал почитать себя как живого бога в храмах на Палатинском и Капитолийском холмах. Честолюбие Гая Калигулы не знало границ: он появлялся в обличье Геркулеса, Нептуна, Бахуса и Аполлона, при помощи париков он изображал даже Венеру, Юнону и Диану. Источники сохранили слух, что он зашел так далеко, что пытался обольстить луну, жаждая новых ощущений, когда бледный холодный свет заливал спальню дворца. В одном храме стояла позолоченная статуя Гая в натуральную величину. В попытке размыть границы между смертной и бессмертной фигурой императора на ней была его повседневная одежда. Ее блеск затуманивался только дымом жертвоприношений: цесарки, павлины, фазаны, вальдшнепы и даже фламинго сжигались, чтобы умиротворить этого любителя фарсов и шарлатана.
Такой крутой поворот в политике, явно вызванный своенравием натуры, был типичен для Гая, неспособного совместить несовместимое — отчаянный страх и непомерную самоуверенность, которые Светоний считал первопричиной помрачения его ума. Со временем человек, который относился к римскому пантеону с презрительной небрежностью, появился в Байи «в дубовом венке… и в златотканом плаще», в другом случае он носил трезубец, кадуцей или молнию — знаки богов. Изучал ли Гай Калигула границы недавно обретенной власти (наслаждаясь замысловатыми шутками над римским легковерием и сенаторским низкопоклонством) или утверждал неприступность позиции принцепса, «одалживая» небесные атрибуты? Был ли его подход к общественному почитанию (основанный на демонстрации своих талантов) действительно продуманной политикой, предназначенной для подтверждения высокого положения и способности править благодаря сверхчеловеческим качествам, отсутствующим у черни? Если так, то последующие события раскроют бесплодность этой самовлюбленной игры на публику. Возможно, такую театральную самодеятельность следует интерпретировать не более как юношеские экспромты человека, который привык полагаться в плане развлечений только на себя, или как упражнение в осуществлении тайных желаний того, кто даже в юности был приговорен к осмеянию из-за своей внешности. (Произнесение слова «козел» в присутствии лысого, но волосатого телом императора считалось тяжким преступлением.) Оба варианта могут вызвать только сожаление. Источники никак не комментируют версию о психической неустойчивости. Достаточно указать, что по духу те же самые поступки менее чем веком ранее стоили жизни божественному Юлию — то же самое стремление к величию, которое однажды сделало Марка Антония идеологическим врагом Рима, тот же самый знак равенства между правителем и божеством, берущий корни на Востоке. С мартовских ид и поражения Марка Антония при Акции прошло много времени. Все меняется, даже отношения. Сумасшедший Гай, имевший склонность к женской обуви и воспитанный среди восточных князьков в доме своей бабки Антонии, дочери Антония, мог быть первым римлянином, в полной мере осознавшим эти перемены.
Если бы только, подобно Августу, он мог сохранять умеренность, ограничивать себя во всех аспектах жизни, тогда он, возможно, выжил бы. Вместо этого Гай был сумасброден в своих страстях, имея страсть к сумасбродству и невоздержанности. Дион Кассий обвиняет его в растрате более трех миллиардов сестерциев на протяжении двух лет[101], Сенека — в том, что он промотал годовую дань трех провинций (десять миллионов сестерциев) за один обед.[102] Такая расточительность истощила имперскую казну: жажда денег была лишь одной из причин для его непредсказуемых убийств. А аппетиты Гая были весьма широкими. Согласно источникам, «Стыдливости он не щадил ни в себе, ни в других». Во дворце он устроил публичный дом. Он был женат четыре раза, но след оставила только последняя жена, Цезония, лишенная красоты, но искусная в любви. Он жил в кровосмесительной связи со всеми тремя сестрами (общее обвинение для всех непопулярных императоров, но более правдоподобное в отношении Гая Калигулы, чем остальных), его любимая сестра Друзилла стала первой обожествленной женщиной императорского дома. Хотя он изгнал из города самых отъявленных проституирующих мужчин, он сам занимался мужеложеством с Валерием Катуллом, пока последний не признался, что измучен донельзя. Причина простая: в аморальную эпоху Гай был несдержанным в половых связях. В отличие от Тиберия он даже не старался скрыть непристойное поведение от любопытных глаз на укромном острове наподобие Капри. В отличие от Августа лицемерие не числилось среди его недостатков. Он наставлял рога мужьям на званых обедах, на которые приглашали обоих супругов. По словам Светония, Гай Калигула уводил чужую жену в соседнюю комнату, «а вернувшись… перечислял в подробностях, что хорошего и плохого нашел он в ее теле, и какова она была в постели». Мужу приходилось слушать в молчаливом согласии из страха за свою жизнь.
Напрасно префект претория Макрон напоминал Гаю о достоинстве, которого требовало его положение: через год тот заставил его замолчать навсегда. То же самое относится к отцу его рано скончавшейся первой жены, Юнии Клавдиллы: тесть Гая поплатился за то, что пытался играть роль серого кардинала. Были и символические уступки. Как и Тиберий до него, Гай уподобил свои изображения скульптурным портретам Августа, как свидетельствует бюст в одном из музеев Копенгагена. За исключением раздраженно поджатых губ и более толстого носа (вероятно, результат пьянства), его черты близко напоминают классическое, идеализированное лицо нестареющего предшественника. Позже Гай будет настаивать, что он делит свой Августов облик со статуями богов. Ему явно нужна была слава Августа, чтобы обосновать легитимность собственного правления и претензии на небожительство, так как официальная иконография объединяет его черты с образом прапрадеда. Однако он не стремился подражать действиям великого предка и не переносил визуальное сходство в сферу политических решений и сохранения доброго имени. (Он не выносил, когда его сравнивали с «молодым Августом», считая это недостойным своей юности и неопытности.[103]) С расстояния это кажется своенравием, но причиной могла быть лень и отсутствие интереса.
Полная история этого несчастного дебошира и его маниакального злоупотребления властью не ограничивается знаменитым высказыванием Светония о его двойной жизни как императора и как чудовища. Примечательно то, что она иллюстрирует живучесть Августовой системы перед лицом душевного расстройства правителя, убийств и мегаломании. В 37 году римляне всей душой приняли молодого человека, вся жизнь которого прошла в эпоху принципата, под тенью семейной политики. Но такое настроение толпы длилось недолго. Гай Калигула был кукушонком в гнезде, волком в овечьей шкуре: как предсказал Тиберий, — наполненной ядом гадюкой на груди Рима, Фаэтоном, которому было предназначено потерять управление солнечной колесницей и сжечь весь Римский мир. Но его смерть не помогла восстановить Республику. Последний оставшийся в живых наследник мужского пола унаследовал остатки власти, которой он так бездарно пользовался, и пост, оказавшийся более долговечным, чем занимавший его человек.
Историки-ревизионисты испытывают к нему сострадание; античные авторы, чья память свежее, углубляются в своих изысканиях не так глубоко. Они сосредоточивают внимание не на причине, а на ошеломляющих последствиях. Светоний похоронил Гая под многослойными пластами крайне скандальных слухов о разнузданной похоти и бесчувственной порочности. Его «Жизнь двенадцати цезарей» оттеняется подробностями личной жизни и фактами, известными по слухам. Она включает детские воспоминания о рассказах деда, как будто дедовы догадки и его собственная память, сохранившая подслушанные рассказы взрослых, стоят того, чтобы облечь их в авторитетную письменную форму. Каким бы искусным ни был пересказ историй, это всего лишь не внушающий доверия источник и неряшливо оформленные биографии, даже если принимать в расчет античную оценку жизнеописаний как жанра. Если вскрыть противоречия светониевского Гая, он предстанет в качестве составного элемента потенциальных нравоучительных литературных моделей и условностей, это своего рода Икар, одержимо летающий слишком близко к Солнцу, нераскаявшийся блудный сын, гордящийся опалой Люцифер, выродившийся потомок примерного отца.
Гай представлял собой историческую пародию на правителя, но Калигула из античных источников — это легенда. Он будет жить, пока человек не перестанет злоупотреблять властью, снова и снова возрождаясь, будучи, как Клеопатра, сподручным и живучим архетипом, он будет существовать, пока похотливость преобладает в рассказах о невоздержанности, которые, пусть даже с минимальной долей вероятности, содержат крупицы правды. В своей «Естественной истории» Плиний Старший рассказывает, как Гай любил купаться в благовонных маслах и, подобно Клеопатре из Августовой пропаганды, пил драгоценные жемчужины, растворенные в уксусе. Страсть к золоту у него была такова, что, предваряя европейских принцев эпохи Возрождения, он давал деньги на дорогостоящие, бесполезные алхимические эксперименты.[104] В отличие от придирчивого Светония Плиний размещает список пристрастий Гая в пределах современной культуры дорогостоящих излишеств: его расточительность была очевидной, но не исключительной, она являлась всего лишь недостатком того времени. Кроме того, ее следствия необязательно были такими серьезными, как их представляют источники, поскольку отсутствуют свидетельства сколько-нибудь серьезного финансового кризиса в начале следующего правления. Одной рациональности недостаточно. Нередко в слухах об этом жестоком и надменном деспоте историографии не позволено найти никаких оправданий. Он обвиняется фактами (такими, какие могут быть прослежены)… и точно так же осуждается вымыслами.