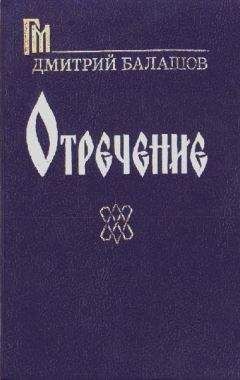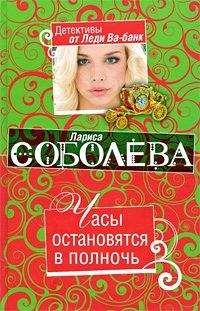Настасья берет ложку, и по знаку тому председящие принимаются за трапезу. От ухи восходит ароматный пар, и все идет заведенным чином. Сыновья и гости истово едят, митрополит токмо вкушает, но заметно, что ублаготворен и он. Идет неспешная пристойная беседа. Слуги, неслышно появляясь, носят и носят перемены.
Алексий, поглядывая на хозяйку, задает вопросы о внуках, о здоровье – незначащие вопросы, приглядывается. Тверские князья, в свою очередь, приглядываются к нему. С прошлых лет Алексий словно бы чуточку подсох, крепкие морщины лица не разглаживает теперь даже улыбка, но взгляд все так же темно-прозрачен и ясен и полон умом, а порою и сдержанною, спрятанной во глуби зрачков усмешкой.
Всеволод, как большой пес, недовольно отводит глаза от взгляда митрополита. Михаил же и сам смотрит на Алексия с легкою лукавинкой, вопрошает, утих ли князь Дмитрий Костянтиныч или по-прежнему недоволен потерею великого стола.
Епископ Василий с беспокойством взглядывает то на микулинского князя, то на владыку: неподобно прошать о таковом, да еще на пиру!
– Не исповедовал князя, посему не ведаю, – отвечает Алексий, встречною улыбкой возражая дерзости молодого Александровича.
«Как быстро мелькают годы! Отрок сей такожде предерзко состязался некогда с князем Семеном в Новом Городе, а теперь стал муж рати и совета, превзошел, видимо, уже и всех братьев своих, – думает Алексий, глядя на Михаила. – Ныне и отроком не назовешь!»
– Может ли земная власть быть одновременно властию духовною? Ведь «царство мое не от мира сего»! – спрашивает Михаил, и застолье притихает, смущенное столь явным высказываньем того, о чем все ведают, но молчат. Алексий перестает улыбаться, смотрит в лицо микулинскому князю сурово и спокойно.
– Не может! – отвечает он твердо и, дав восчувствовать, повторяет опять: – И паки реку: не может! Но духовная власть, – он подымает указующий перст к иконам, – владычествовать над властию земною и может, и даже должна! Ибо Дух превыше плоти. И тайна исповеди принадлежит токмо иереям, не власти земной! – Алексий, отставивший было тарель, вновь придвигает ее к себе и, зацепивши кусок белорыбицы вилкой, как незначащее, разумеемое само собою, добавляет: – И посему, сыне, митрополит призван судити и оправливати князей земных, а не инако! И ежели земная власть возжаждет заменить собою духовную, что многажды бывало в протекшие века, – изъясняет он попутно, поворачиваясь к прочим гостям, – ни к чему доброму сие не приводило и не приведет, а токмо к суете, огрублению нравов и смердам к докуке вятшей от несытства забывших Бога властителей!
Михаил медлит, молчит и наконец, поведя значительно бровью (уразумев про себя, как мог бы отмолвить Алексий на дальнейшие его вопрошания), утыкает нос в тарель, побежденный в прилюдном споре, хотя и не убежденный владыкою.
Настасья вздыхает облегченно. Меньше всего надобна им сейчас пря с митрополитом! И ей ведь на самом деле предстоит предстательствовать за владыку Алексия перед Ольгердом! Ибо ежели с Алексием что содеют нынче в Литве, пятно преступления падет и на вдову загубленного некогда в Орде князя Александра Тверского.
– Не стоило тебе ворошить этот муравейник! – ворчливо вымолвил Всеволод, когда уже отбыли митрополит с епископом и гости начали покидать столовую палату.
Они стояли рядом – он с Михайлой, глядя, как хлопочет мать и слуги, убирая со столов, бережно уносят в тарелях и мисах объедки трапезы. «Чтобы за дверями покоя или на поварне вдосталь полакомиться остатками редких господских блюд», – безотчетно отмечает про себя Михаил, у которого не прошло его отроческое, воспитанное еще в Новгороде умение видеть каждую вещь или явление с разных сторон. Греясь у печи, он видел дымный покой с той стороны, куда выходит дым, и слуг, которые, морщась от чадной горечи, накладывают дрова. Разговаривая со смердом-медником, ладившим княжую упряжь, он не позабывал спросить (ибо знал и ведал) про домашний обиход мастера, и ежели стояла дороговь на говядину в торгу, то знал точно опять же, у кого из горожан нынче будут пустые шти на столе. Глядючи, как куют, строят, чеботарят, выделывают кожи, Михайло мог задать всегда дельный вопрос, обличающий хорошее знание ремесла. Мог сам взять в руки топор или кузнечное изымало. Знанием этим и люб был многим и многим молодой микулинский князь паче Василия Кашинского, что по торжественным дням, гордо задирая бороду, разбрасывал в толпе серебро горстями выхвалы ради, а как живут и что едят тверские смерды, кажется, не ведал совсем.
Михайло и Алексия не утерпел поддеть за трапезою, ибо слишком хорошо чуял истину того, что человек, долженствующий надстоять равно над всеми, является одновременно местоблюстителем московского стола и ведет дело к тому, чтобы все залесские княжества подчинились московской власти. «Но почему не тверской?!» – с возмущением думал Михаил. Внуку и соименнику Михайлы Святого неможно было и мыслить иначе. Всеволод, тот был уже сломлен. Михаил – нет.
– Я не к тому, – поясняет Всеволод негромко, видя молчаливое возмущение брата, – что ты не прав! Но ни к чему это теперь!
– Митрополит не вечен, как и князья, как и всякий смертный! – резко отвечает микулинский князь старшему брату. – Мальчишка, что сидит сейчас на престоле нашего отца и деда, тоже может умереть в свой черед. И что тогда? Лествичное право – залог того, что княжеская власть не окончит и не сгинет в русской земле! А владыка Алексий мыслит доверить страну воле слепого случая, причудам рождения, судьбе, наконец! Неужели и ты, брат, не видишь, как слепа и преступна эта борьба за наследственную власть одного рода! И паки реку: почто не мы?! Даже и в том рассуждении, ежели митрополит прав и надобно родовое наследование власти, почто не потомкам Святого Михаила, великого князя, мученика, отдавшего кровь и жизнь за други своя, почто не им, не граду Твери, что стоит на скрещении всех путей торговых и ратных, что неодолимо ширится и растет, что славен художеством и премудростью книжною уже теперь паче иных русских градов, почто не нам возглавить Залесскую Русь? Что содеяли москвичи, начиная с рыжего Юрия? Ублажали Орду и уступали Литве город за городом! Да, мы с тобою союзники Ольгерда, но кто заставил нас кинуться в объятия Литвы? Не московские ли шкоды с покойным Костянтином, с Василием, что двадцать лет подымает которы и свары в Тверской земле! Ты баешь, Семен Иваныч был иной, чем они все! Но что он содеял для нас, твой Семен? Великое княжение тверское у тебя было вновь отобрано… Ну сам, сам знаю! Сам отдал! И не подумал бы отдать, коли бы не Москва! Брянск они потеряли? Ржеву отдали? Нынче потерян Коршев, дальше очередь Новосиля. Киев не сегодня завтра да и вся Подолия будут в Ольгердовых руках! Так уж лучше с Ольгердом, чем с Москвою!
Михаил выговорился и умолк. Настасья подошла к детям, о чем-то заспорившим непутем, и оба согласно склонились перед матерью.
– Посиди со мною, Всеволод. И ты, Михаил, тоже! – попросила она. – Уезжаю, так наглядеться на вас обоих напоследях.
Лицо у матери было прежнее, улыбчивое, спокойное. Улыбкою она словно бы смиряла силу слов. Но в глазах промелькнуло мгновеньем предчувствие близкой разлуки, хотя никто из них не мог бы в ту пору представить себе, когда и какой.
Еще через день пышная и долгая вереница конных ратников, слуг, бояр и свиты, телег, возов и возков, поставленных на колесный ход, выезжала из ворот княжеского двора.
Тверской великий князь Василий Кашинский прискакал-таки почтить митрополита и сейчас пыжился, сидя на вороном атласном коне в богатом уборе и в дорогом жарком платье, обливаясь потом и задирая спесиво бороду, что делал всякий раз в присутствии своих непокорных племянников и что со стороны выглядело довольно смешно. Василий был уже сильно полноват, с набрякшею толстою шеей, красное мокрое лицо его то обращалось к возку благословляющего его митрополита, то взмывало опять к небесам, когда танцующий кровный жеребец нетерпеливо привставал на дыбы. От шелковой переливчатой попоны, от жженого золотом седла, от узорной, в рубинах чешмы на груди коня, от густого серебра сбруи и оголовья княжеского коня исходило сверкание, так что впору было прижмуривать глаза. Соболиный опашень вовсе был лишним на тверском князе.
Александровичи тупились, отводили глаза. Провожая мать, не хотели, тем паче прилюдной, ссоры с дядей.
Вот возы и возки протарахтели по бревенчатой мостовой, вот выехали на колеистую дорогу, и началось дорожное покачивание и потряхивание с боку на бок.
Станята в холщовом армяке, невидный совсем, забившись в глубине возка между двух владычных служек – на коленях у него ларец с грамотами, – неотрывно и печально глядит в спину Алексия, что, высунувшись в окошко, крестит и крестит провожающих. Как-то встретит владыку, да и его самого, враждебная Литва!