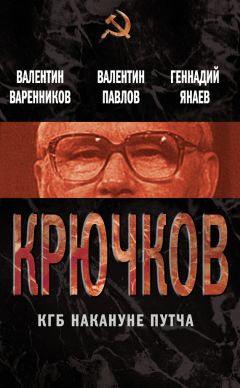«Мы форма единой сущности — партийного государства», — убеждает эсэсовец Лисс большевика Мостовского в великом романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».{45} В одном из черновых вариантов этой же главы Лисе говорит Мостовскому примерно следующее: не важно, кто из нас победит в этой войне. Победите вы — мы будем жить, продолжаться в вас, мы — вы будете жить и продолжаться в нас…
Победил Советский Союз. И тысячи советских военнопленных, прошедших горнило фашистских лагерей, эшелонами были отправлены в лагеря советские, в Сибирь.
Лагеря же Бухенвальд, Заксенхаузен и другие — всего одиннадцать — не были закрыты — перешли в ведение НКВД. Уже 12 августа 1945 года, через три месяца, как был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, в Бухенвальде — этом символе фашистского ада — появились первые узники НКВД. По западногерманским оценкам, в особых лагерях Советской зоны оккупации погибло около 65 тысяч мужчин, женщин, детей.{46}
В 1950 году эти лагеря наконец закрыли. А в победившем Советском Союзе в это время бушевала новая, не менее страшная, чем в тридцать седьмом, волна репрессий. За недостатком расстрельщиков и большим потоком приговоренных, для казни использовались автомашины-душегубки, закамуфлированные под хлебные фургоны, — в них людей отравляли газом… Или, может быть, я ошибаюсь, и эти «милые» изобретения появились еще в середине тридцатых, еще до печей Освенцима?..{47} Да, еще до печей Освенцима. Да, это наше, советское изобретение.
Ничто не возникает из ничего. ИДЕЯ породила ВЧК, ВЧК, в свою очередь — НКВД, опытом НКВД воспользовалось гестапо. ИДЕЯ сокрушила мораль, заменила ее антиморалью — классовыми интересами. Классовые интересы и теоретически, и на практике допускали убийство во имя высших целей. «Морали в политике нет, а есть только целесообразность», — учил Ленин.{48}
Выучил.
«Не убий» было ханжеской заповедью, пролетариат подойдет к этому правилу строго по-деловому, с точки зрения классовой пользы. Убийство злейшего, неисправимого врага революции, убийство, совершенное организованно, классовым коллективом — по распоряжению классовой власти во имя спасения пролетарской революции — законное этическое убийство(выделено мною — Е.А.). Метафизической самодовлеющей ценности человеческой жизни для пролетариата не существует, для него существуют лишь интересы пролетарской революции», — написано в книге «Революция и молодежь» проф. Залкинда, изданной в Москве в 1924 году.{49}
Убийство стало нормой.
«Девочка 12 лет боится крови… Составить список книг, чтение которых заставило бы девочку отказаться от инстинктивного отвращения к Красному террору», — рекомендует «Сборник задач по внешкольной работе библиотек» 1920 года.{50}
Мальчику Саше Хвату в это время было тринадцать.
Ему исполнилось 22, когда великим стоном по деревням и селам прошелся «великий перелом». И миллионы крестьянских семей — цвет крестьянства! — усилиями сотрудников ОГПУ — так теперь назывались ВЧК — были отправлены на голод и смерть в Сибирь[23].
Так откуда же, повторю, было взяться нравственным барьерам? Так откуда же было появиться жалости к отдельному человеку, если был потерян всякий страх перед чужой кровью и чужой смертью? Так какими же еще могли быть следователи ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ, коли они сами, либо их учителя — предшественники, прошли такую школу братоубийственного террора?
Но разве извиняет это Хвата и иже с ним? Оправдывает ли его? Делает ли меньше его личную вину перед теми, кому «мера наказания — расстрел»? Перед их женами, оставшимися до срока вдовами? Перед их детьми-сиротами, потерявшими детство или, хуже того, прошедшими школу спецдетских домов и колоний для детей «врагов народа»?
Дети… Нет для меня в этой истории темы больнее. Дети, только научившиеся говорить, зовущие по ночам — «мама», нуждающиеся в родительском тепле и — брошенные в водоворот этой страшной мясорубки. За что? Как эта земля могла подобное выдержать? Как Господь мог не проклясть эту безумную страну?..
В бумагах следователя НКВД Александра Ланфанга, закончившего свою карьеру генерал-лейтенантом, было найдено это письмо. Оно адресовано «дяде Иосифу Виссарионовичу Сталину»:
«Дядя Иосиф Виссарионович!
Я и моя сестра Роза учимся в 151 школе Ленинградского района города Москвы. Я учусь в пятом классе, а Роза во втором классе. Мы решили написать Вам письмо для того, чтобы мы были спокойны и могли лучше учиться. Нашего папу Василия Тарасовича Чемоданова забрали 15 сентября 1937 года. Мама в это время была в больнице, сделали сложную операцию — кесарево сечение, вытащили сестричку, которую мы назвали Светланочкой. Уже 3,5 месяца ей. Спустя два месяца, как взяли папу, пришли за мамой. Но маму не взяли, потому что Светланочке было три недели и мама была очень плоха. Они попросили дать подписку о невыезде из Москвы. Иосиф Виссарионович, мы просим Вас, чтобы нашу маму не трогали, потому что она у нас хорошая и мы очень любим ее. Просим Вас, чтобы Вы прислали нам ответ на наше письмо. И обещаем, что будем учиться на «хорошо» и «отлично».
Ленинградское шоссе, дом 36, кв.191. Писал Гриша Чемоданов. Роза Чемоданова, Чемоданов Гриша за Светланочку».
Это письмо написано детьми человека, в тридцатых годах в России очень известного, даже легендарного — его звали «комрадо Чемо». Василий Чемоданов был представителем комсомола в Коммунистическом Интернационале Молодежи. Его, естественно, арестовали и расстреляли.
Следователь Александр Ланфанг вел дело Чемоданова. Потому письмо Чемодановых-младших, адресованное «лучшему другу детей», как писали о Сталине в газетах того времени, попало, понятное дело, к Ланфангу. У него в сейфе и осталось.
Мне письмо передал бывший заместитель Главного военного прокурора СССР в конце 50-ых — начале 60-ых, генерал-майор в отставке Борис Викторов. Разбирая в архиве следственное дело Ланфанга, Викторов и обнаружил там это письмо.
Детей Чемодановых я нашла в 88-ом. Гриши, старшего из них, уже не было — он сгинул на фронте еще в 41-ом. Когда я прочитала письмо сестрам — Розе и Светланочке, родившейся уже после того, как арестовали ее папу, сестры очень плакали — не могли говорить.
Потом они рассказали мне свою историю.
После ареста папы Гриша и Роза какое-то время жили с бабушкой — маминой мамой. Потом привезли из больницы маму со Светланочкой. У мамы, Ольги Абрамовны, в результате неправильного переливания крови отнялись ноги и рука.
Денег не было. Имущество после ареста отца конфисковали — энкаведешники вывезли целый грузовик. Оставили только кровать, на которой дети и спали. Когда чекисты описывали имущество, Роза в приоткрытую дверь видела, как они меж собой делили их, чемодановское, имущество: «Этот патефон — тебе, это платье — мне…» Мамину розовую пудреницу делили тоже.
По паспорту мамы Роза и Гриша устроились в артель — клеили бумажные пакеты для киселя. Так зарабатывали Светланочке на молоко (у мамы от волнений молоко перегорело), себе — на хлеб. Иногда раздавался стук в дверь: открывали, у порога сумка с продуктами — их подкармливали соседи, которые заходить в квартиру арестованного боялись.
Еще нужны были деньги, чтобы передавать раз в месяц 5 рублей папе в тюрьму — сначала в Бутырскую, потом — в Лефортовскую. Деньги в окошечке исправно принимали вплоть до войны, до 41-го года. Хотя Василия Чемоданова расстреляли еще в тридцать седьмом, в ноябре.
Потом маме позвонила ее бывшая маникюрша, предложила: обучит своему делу и купит рабочий инструмент: «Иначе умрете с голоду». Ольгу Абрамовну как жену «врага народа» на работу никуда не брали.
Роза, как исполнилось тринадцать, устроилась на завод клепальщицей. Учиться больше не пришлось.
Светланочку, когда началась война, отдали в детский дом. Вскоре оттуда пришло письмо: дети завшивели, от голода пухнут, хороним пачками. Если хотите увидеть Светланочку живой — забирайте. Ее забрали соседи по московскому дому — они, на счастье, оказались в Казани, куда эвакуировали детский дом.
Первое время (после детдома) Светланочка при виде хлеба на столе кричала — от страха, что ей не достанется.
В середине 50-ых Василия Чемоданова, как и многих тогда, реабилитировали, — мама и сестры получили о том соответствующую бумажку: в графе «место смерти» — прочерк, «причина смерти» — тоже прочерк…
* * *
После публикации очерка о Хвате в газете, я получила десятки писем: «Рассказывая об «университетах» Хвата, о тех правилах, которые существовали в НКВД, о той нравственной атмосфере, в которой тогда жила страна, вы тем оправдываете Хвата», — писали мне читатели.
Я отвечала: нет, не оправдываю. Но я хочу понять, как создавался такой тип советских людей, который в 1991 году, согласно социологическому опросу, относил основателя ВЧК Дзержинского к первой пятерке своих героев.{51} Такой тип советских людей, из которых вышли Хваты и Луховицкие? Повторю — они не выродки, не мутанты — одни из нас.