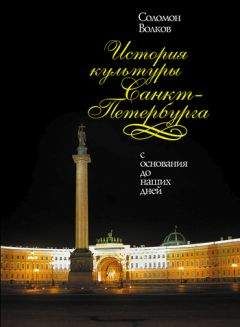Достоевский убежден, что эти строения – всего лишь убогие подражания европейским стилям. Взгляд писателя с презрением скользит по панораме Петербурга: «Вот бесхарактерная архитектура церквей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения…»
Эти эстетические оценки Достоевского вытекали из его политических и социальных взглядов, и прежде всего из его принципиального неприятия Петра Великого и его реформ. По мнению Достоевского, Петр нанес удар по православной церкви – главному оплоту национального духа, покусился на русские традиции, вырыл пропасть между народом и образованным классом. Достоевский считал Петра первым русским «нигилистом». По воспоминаниям жены, писатель говорил о нем со страстью как о злейшем своем личном враге.
Поэтому и основание Петербурга, согласно Достоевскому, есть преступная ошибка Петра: нигилистический жест, бессмысленный вызов природе, традициям, народному духу и благу. В своей записной книжке писатель цитирует знаменитую строку Пушкина из «Медного всадника»: «Люблю тебя, Петра творенье». И, словно оправдываясь перед боготворимым им Пушкиным, замечает: «Виноват, не люблю я его. Окна, дырья, – и монументы».
Эта антипетровская позиция Достоевского (как, впрочем, и все его «пессимистическое, извращенное, чуждое социализму» творчество) подверглась осуждению в России Сталина. Диктатор не любил Петербурга, но Петра I он уважал, хотя и считал недостаточно решительным и жестоким. («Недорубал Петруха», – сокрушался Сталин в задушевном частном разговоре с любимым актером.) Это непризнание Достоевского сохранялось десятилетиями и после смерти Сталина. В Советском Союзе Достоевского неохотно печатали, крайне скупо включали в школьные программы, продолжали осуждать за «идеологические ошибки», как будто он был каким-то современным диссидентом.
Подозрительное отношение советских властей к Достоевскому проявлялось даже в мелочах. Например, стоило мне в статье, напечатанной в московском журнале «Советская музыка» в 1974 году, с одобрением процитировать слова Достоевского о деспотизме Петра и его «в высшей степени антинародности», как последовал резкий окрик со стороны газеты Центрального Комитета Коммунистической партии «Советская культура». Сейчас все это может показаться смешным, но в тот момент ни мне, ни моим перепуганным коллегам по «Советской музыке» было совсем не до смеха…
Самый «умышленный» город в мире – таков известный и окончательный приговор Достоевского Петербургу. Эта «умышленность», то есть искусственность, полное отсутствие национальных корней, есть, в глазах Достоевского, невосполнимый порок и грех. Из этой заведомой национальной ущербности русской столицы и проистекает неминуемая враждебность Петербурга истинно русской личности.
Достоевский побывал и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине. Облик этих гигантских метрополисов ужаснул его, и он с отвращением прозревает в Петербурге сходные черты. Буржуазная Европа Достоевскому ненавистна, а потому он отрицает и необходимость «окна в Европу», каковым представляли Петербург его апологеты. Это именно окно, говорит Достоевский, в которое русская элита посматривает на Запад, да видит там вовсе не то, что нужно.
Такой город, конечно, не имеет права на существование. Он должен исчезнуть. И здесь Достоевский с энтузиазмом подхватывает фольклорную традицию, предрекавшую гибель неправедно возникшей, безбожной, узурпировавшей чужие регалии столице. Как мы помним, Петербургу предсказывали запустение (так называемое «проклятье царицы Евдокии»), потопление или гибель в огне. Достоевский придумал свой, наиболее фантастический и в то же время в своей поразительной простоте представляющийся единственно реальным вариант исчезновения Петербурга.
Достоевский вклинивает свою заветную идею в размышления героя романа «Подросток», написанного в 1874 году и занимающего особое место в творчестве писателя. Этот пассаж из «Подростка» представляет собой венец петербургского мифа в интерпретации Достоевского. И как характерно, что именно в данном тексте Достоевский прямо обращается к той конной статуе Фальконе, как она отображена в «Медном всаднике» Пушкина, вступая с ним в скрытую полемику, но также и продолжая литературную и культурную традицию, столь витальную для русского общества: «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»
Петербургский миф Достоевского, вобравший в себя открытия французских писателей (Гюго, Бальзака, Флобера), немца Гофмана, англичанина Диккенса и американца Эдгара По, в свою очередь, существенно изменил восприятие западных метрополисов их обитателями. Петербургский студент Раскольников пошел бродить по Берлину, Парижу и Лондону. Ницше признался (в «Сумерках богов»): «Достоевский принадлежит к самым счастливым открытиям в моей жизни…» Франсис Карко писал, что его представления о закоулках Парижа были навсегда окрашены впечатлением от чтения «Преступления и наказания». Дух Раскольникова витает над романом Райнера Мария Рильке «Заметки Мальте Лауридса Бригге».
Петербург Достоевского стал частью западного культурного и спиритуального опыта в еще большей степени, чем Петербург Гоголя. Разумеется, романы Достоевского подверглись в переводах неизбежному упрощению. С особой силой я ощутил это, наблюдая в 1986 году в Вашингтоне репетиции спектакля по «Преступлению и наказанию» в постановке Юрия Любимова.
Текст, произносимый американскими актерами, передавал содержание романа с достаточной точностью, но лихорадочный ритм речи персонажей Достоевского с его постоянными, почти неощутимыми ускорениями и замедлениями, подъемами и спадами, густой аллитерационной окраской и обилием уменьшительных слов, столь характерных для русского языка и для Достоевского в особенности, был утерян почти полностью. Любимов не без успеха пытался компенсировать эту существенную потерю бешеным темпом постановки и головокружительным сочетанием световых и музыкальных эффектов, создававших причудливый образ пореформенного Петербурга в центре Вашингтона Рональда Рейгана.
Однако в целом для романов Достоевского (не зря получивших в русской критике ярлык «идеологических») урон при пересадке их словесной ткани оказался не столь значительным, как в случае с построенными иногда на чистой словесной игре виртуозными опусами Гоголя или, в еще большей степени, со столь контрастными в сравнении и с Гоголем, и с Достоевским, почти «нагими» произведениями Пушкина.
Совершенство Пушкина и его «петербургских» творений западная публика принимает на веру. Известность Пушкина на Западе парадоксальным образом опирается на популярность здесь трех русских опер на его сюжеты: «Борис Годунов» Модеста Мусоргского (премьера в 1874-м), «Евгений Онегин» (премьера в 1879-м) и «Пиковая дама» (премьера в 1890-м) Петра Чайковского.
Парадокс усугубляется тем, что и Мусоргский, и Чайковский, при всем их огромном почитании Пушкина, в своей музыке далеко удалились от его стиля и эмоций. Артистические и психологические тяготения обоих композиторов (внешне столь отличных друг от друга – и жизненно, и творчески) совпадают с идеями и эмоциями их современника Достоевского.
Любые параллели такого рода неизбежно условны. И Мусоргский, и Чайковский, каждый создал свой, в высшей степени своеобразный громадный мир с четко очерченными границами. И тем не менее у них есть опусы, столь тесно переплетающиеся с художественными идеями Достоевского и производящие эффект, столь схожий с чтением некоторых из наиболее сокровенных его излияний, что сравнение писателя и двух композиторов становится неизбежным.
Это тем более необходимо, что и Мусоргский, и Чайковский приняли участие в создании петербургского мифа, – первый немногими, но экстраординарными произведениями, второй – длинным рядом своих самых капитальных опусов.
Культ Петербурга начался с поэтических од. Проблема Петербурга впервые была поставлена в поэме. Развенчание Петербурга тоже осуществлялось литературой. Больше 130 лет литература царила в Петербурге практически безраздельно.
Опера и балет процветали в императорском Петербурге начала XIX века. Но на миф о Петербурге они существенным образом не влияли. Это были экзотические цветы. Они украшали суровую реальность николаевского Петербурга, но не контрастировали с «проклятыми вопросами», которые город задавал своим обитателям.
Ситуация начала меняться исподволь. Подготовленная общим подъемом русской культуры к середине XIX века в музыке, а затем и в живописи, произошла подлинная революция. Эта революция изменила также представления современников о Петербурге.