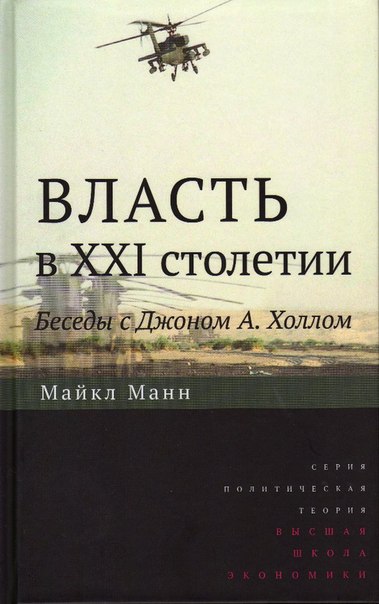Deane 1971: 6, 366); данные по международной торговле Дина и Коула немного увеличены пропорционально увеличению неучтенных данных Шумпетера между 1800 и 1801 гг., которые не были исправлены Дином и Коулом.
Это свидетельствует не о сокращении экономической значимости национального государства перед транснациональной экономикой. Дин и Коул (Deane and Cole 1967: 86–88) приводят данные о географическом распределении рынков, которые демонстрируют обратное. В 1700 г. более 80% экспортной торговли и более 6о% импортной приходилось на Европу, но к 1797“*798 гг- эти цифры упали до 20 и 25 % соответственно. Причиной этого отчасти является торговля с Ирландией, островом Мэн и Нормандскими островами, что отражено в статистике заморской торговли, хотя она с очевидностью была частью внутренней сферы интересов Британии. Но значительная часть роста торговли Британии приходилась на торговлю с колониями Северной Америки и Вест-Индией. Эти рынки были по большей части закрыты для иностранных конкурентов. Действительно, рост колоний оказывал влияние на торговые структуры Великобритании на протяжении XVIII в. В 1699–1701 гг. шерсть и ткань, все еще остававшиеся основной статьей английского экспорта (до 47 % экспорта), сдали свои позиции, уступив лидерство реэкспортной торговле, в основном реэкспорту сахара, табака и хлопчатобумажной ткани из британских колоний в Европу. Навигационные акты и меркантилистский климат препятствовали развитию более прямой торговли между ними. Отныне реэкспортируемые товары составляли 30 % импорта и экспорта. В свою очередь, англичане экспортировали промышленные товары в свои колонии и продолжали импортировать предметы роскоши основных европейских соперников (Davis 1969а). Эти тренды росли в XVIII в., и к ним присоединился еще один — импорт сырья из северных и южных отдаленных областей Европы, особенно Балтики (Davis 1969b).
Поэтому мы можем обнаружить лишь ограниченную транснациональную взаимозависимость. Британская сфера интересов включала Британские острова, британские колонии и более специальным образом европейскую периферию, особенно Скандинавию. Она не распространялась на другие крупные европейские державы, в которых доминировала внутринациональная торговля. Она тщательно регулировалась государством и в основном состояла из прямого импорта и экспорта товаров, включенных в производство или потребление меньшей части населения. Война за независимость США дала существенный толчок этой группе сетей, но она нанесла меньше вреда, чем боялись британцы. К 1800 г. американцы обнаружили, что потоки свободной торговли сходны с теми маршрутами, которыми проходила прежняя колониальная торговля. Они оставались в рамках британской сферы влияния.
Торговые структуры каждого из крупнейших европейских государств различались. Но общим трендом было то, что большая часть роста международной торговли ограничивалась своей сферой влияния, несмотря на то что эти сферы распространились по всему миру. Сегментарные полосы сетей экономического взаимодействия развивались и усиливались, как мы уже видели, под воздействием политического, военного и идеологического давления. Между этими сегментами торговля, как правило, двигалась к двусторонним отношениям: импорт и экспорт приходили к равновесию с дефицитом и излишками, переведенными в слитки или двусторонние кредиты. То, что обычно называют ростом «международного» капитализма, необходимо писать через дефис, чтобы было понятно, что «между-народ-ный» капитализм еще не был транснациональным.
Поэтому рассмотрим более внимательно национальную экономику. Даже до 1700 г. это была преимущественно денежная экономика. Согласно Грегори Кингу, в 1688 г. 25 % экономически активного населения практически полностью жили в денежной экономике с несельскохозяйственной занятостью. Относительно объема денежного обращения среди оставшихся 75 % в сельском хозяйстве трудно что-то утверждать, но практически никто уже не платил всю ренту в натуральном виде и не получал большую часть жалованья в натуральном выражении. Монеты с изображением короля или королевы стали обмениваться и могли свободно циркулировать на территории государства, но не так легко за его пределами.
Кроме того, на пути свободной циркуляции практически не существовало политических или классовых препон: внутренних сборов, препятствий против экономической деятельности различных аскриптивных категорий граждан, а также значительных статусных или классовых барьеров. Единственным значимым барьером, ограничением политической или экономической деятельности была собственность. Любой человек, обладавший собственностью, мог вступить в любую экономическую транзакцию, гарантированную универсальным законодательством и принудительной властью национального государства. Отныне собственность измерялась в количественном выражении, ее ценовой и товарной стоимостью, как этого и можно было ожидать от капиталистической экономики. Поэтому буквально каждый обладал собственностью (хотя и в весьма различных количествах). Даже если ее было недостаточно, чтобы голосовать или служить присяжным, все еще можно было принимать участие в качестве отдельного актора в экономике.
Однако эти две характеристики не гарантируют, что реально существовал национальный рынок — сети экономической интеграции выстраивались крайне медленно, а потому в течение XVIII в. центральные регионы и провинции были весьма слабо интегрированы. Но это не означало, что экономический рост мог протекать свободно и диффузно по всей нации, в географическом и иерархическом отношениях без авторитетного политического действия. В большинстве стран рассматриваемого периода ничего подобного и не было. Таким образом, в Британии как национальной единице капитализм был широко, равномерно и органично распространен по всей ее социальной структуре еще до того, как начался значительный экономический рост в конце XVIII в.
Это особенно важно еще и потому, что рост принял форму, которая часто встречалась в средневековой и раннесовременной Европе. Он был сельскохозяйственным, локальным в своей основе, децентрализованным, диффузным и «квазидемократиче-ским». Он действительно представлял собой практики, распространявшиеся за пределы национал-капитализма, который был рассмотрен выше.
Сельскохозяйственный рост сделал резкий рывок в 1700 г., возможно, несколько раньше [139]. В течение полувека он удвоил средние излишки от 25 до 50 % от общих расходов, что, вероятно, снизило возраст вступления в брак, увеличило рождаемость, сократило уровень смертности и все еще сохранило запасные резервные мощности. Поэтому, хотя сельскохозяйственный рост привел к росту населения, темпы первого превосходили темпы второго. Таким образом, мальтузианский цикл был сломлен (хотя две тяжелые фазы имели место в середине и в конце века). Он включал рост производительности. Вероятно, самым важным из них был постепенный отказ от вспашки земли под пар. Благодаря ротации и севообороту поля можно было использовать каждый сезон, чередуя злаки и овощи, для которых применялись различные химические компоненты или использовались разные слои почвы и которые восстанавливали почвы, истощенные другими культурами. Это практически та же агротехника, которую огородники используют в настоящее время. Поскольку культуры, предназначенные для корма скота, были частью системы ротации, удавалось откормить больше животных, что, в свою очередь, улучшало рацион питания, а также обеспечивало больше навоза для почвы. Ряд сельскохозяйственных культур были завезены из Нового Света: репа, картофель, маис, морковь, капуста, гречка, хмель, рапс, клевер и прочие кормовые растения. Другие улучшения были связаны с использованием лошадиной силы (что стало возможным благодаря корму для скота), усовершенствованием плуга и подков, широким применением железа для их изготовления и