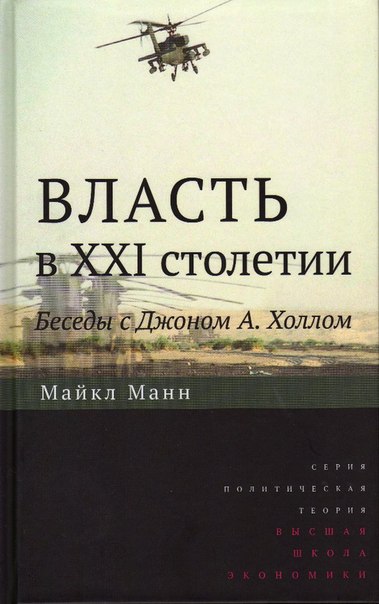марксистских терминах классовой борьбы), все слишком упрощают. Все государства обладают подобными функциями, но на определенной географической и исторической территории они возникли в силу финансовых издержек, которые по большей части проистекали из их геополитической роли.
Однако и такой аргумент все чрезмерно упрощает. Он основан на финансах, а следовательно, имеет тенденцию к недооценке функций, которые были относительно дешевыми, но могли рассматриваться как важные в другом отношении. Другим основным аспектом роста современного государства была монополизация им юридической власти, которая вначале ограничивалась вынесением судебных решений в спорах об обычаях и привилегиях, а затем расширилась до активного законодательства. Эта функция не требовала больших расходов, поскольку государство по большей части координировало деятельность могущественных групп «гражданского общества». В поздний средневековый период эти группы обладали существенной властью в провинциях (как всегда было в случае экстенсивных исторических обществ), а иногда также национальными организациями сословного типа. Но в силу смешанных экономических и военных причин координация становилась более тесной. Второй стадией современного государства стало возникновение органического государства. Государство и монарх (или гораздо реже республика) были тем центром, вокруг которого рос этот организм. В Англии принятой формой была конституционная монархия, окончательно установившаяся после 1688 г. Но организмом также стал капиталистический класс, который объединил земельные и торговые интересы (то есть дворянство, джентри, йоменов, буржуазию и т. д.), но исключил народные массы. Другие страны адаптировали несколько менее органическую форму государства — абсолютизм, который обычно включал дворянство, но исключал буржуазию. Абсолютизм достиг большей степени координации, организовав отношения между группами (в возрастающей степени классами), которые были организационно сегрегированы по отношению друг к другу. В результате он был несколько менее эффективным в инфраструктурном проникновении и социальной мобилизации по сравнению с более органическим конституционным государством (хотя это было в меньшей степени справедливо в отношении военных организаций власти, чем в отношении организаций экономической власти).
Органические, особенно конституционные, государства были новым историческим феноменом на таких больших территориях. Они представляли собой упадок территориально федерального государства, характерного, как мы уже убедились, практически для всех экстенсивных обществ, существовавших прежде. До сих пор управление было компромиссным между центральной и провинциальными аренами власти, каждая из которых обладала существенной автономией. Отныне компромисс был централизованным, и возникло практически унитарное государство. Его инфраструктура была сильнее, и распространение центральной власти на территории было больше, чем у любого предшествовавшего экстенсивного государства.
Остаточным фактором этого светского тренда было фискальное давление на государства, вытекавшее из международных военных потребностей. Но основная причина распространения координационной власти государства лежала в расширении классовых отношений на более протяженных географических территориях в силу перехода от «феодальной» к капиталистической экономике. Экономические ресурсы, включая местную автономию и приватность от государства (см. главу 12), постепенно выкристаллизовались в то, что мы называем частной собственностью. По мере роста производства и торговли местных единиц государства все больше погружались в регуляцию более отчетливых, технически оформленных и тем не менее более универсальных прав собственности. Государства стали вытеснять христианский мир в качестве основного инструмента нормативного умиротворения и порядка — процесс, который стал наглядным и необратимым в протестантском расколе и вызвал религиозные войны XVI–XVII вв.
Однако заметьте, что я пишу «государства», а не «государство». Поскольку, какими бы ни были нормативные (и репрессивные) потребности капитализма, он не создал своего единого государства. Как я еще раз отмечу в следующем томе, не было ничего неотъемлемо присущего капиталистическому способу производства, что привело бы к развитию классовых сетей, каждая из которых ограничивалась бы территориями государства. Дело в том, что и координирующие, и органические государства были все больше национальными по своему характеру. Мы были свидетелями возникновения множества сетей экономической власти и множества случаев классовой борьбы, а также увековечивания многих государств, принадлежавших к единой цивилизации. И вновь, как в шумерской или греческой цивилизации во времена их расцвета, динамика цивилизации включала и небольшие, унитарные, государство-центричные единицы, и более широкую геополитическую «федеральную культуру».
Таким образом, к моменту промышленной революции капитализм уже был в составе цивилизации соперничавших геополитических государств. Христианство больше не определяло сущностное единство этой цивилизации. Действительно трудно было уловить природу этого единства и выразить ее иначе, чем «европейское» единство (Европа). Дипломатические каналы составляли основу ее организации, а геополитические отношения включали торговлю, дипломатию и войны, которые государства не считали взаимоисключающими. Однако шире, чем они, было распространено ощущение общей европейской плюс христианской (а вскоре и «белой») идентичности, носителем которой не была ни одна из транснациональных авторитетных организаций. Тем не менее экономические взаимодействия происходили в основном внутри национальных границ, дополнялись экономическими отношениями с имперскими доминионами. Каждое передовое государство стремилось к установлению экономической сети, ограниченной его границами. Международные экономические отношения авторитетно опосредовались государством. Классовая регуляция и организация, таким образом, развивались в каждой из ряда географических областей, оформленных существующими геополитическими единицами.
Таким образом, важной детерминантой процесса и результата классовой борьбы становились природа и взаимоотношения государств, как отмечали другие авторы. Тилли задается в чем-то бесхитростным вопросом, были ли на самом деле французские крестьяне XVII в. «классом» в том смысле, в каком этот термин обычно используют, поскольку вместо того, чтобы сражаться против своих землевладельцев, крестьяне нередко сражались на их стороне против государства. Почему, спрашивает он? Дело в том, что государственная потребность в налогах и людских ресурсах для международных войн вела к поборам крестьян и поощрению коммерциализации экономики, которая также угрожала правам крестьян. Тилли приходит к заключению, что французское крестьянство было правилом, а не исключением. Он пишет: «Двумя господствующими процессами (социального развития) являются расширение капитализма и рост национального государства и системы государств». Взаимосвязь этих двух процессов, утверждает он, объясняет классовую борьбу (Tilly 1981: 44–52,109–144).
Эту историю начиная с XVIII в. развивает Скочпол. Она показывает, что современные классовые революции (французская, русская и китайская) были результатом взаимосвязи между классовой борьбой и борьбой между государствами. Конфликты крестьян, землевладельцев, бюргеров, капиталистов и других групп фокусировались на процессе сбора налогов государствами «старого порядка», сражавшимися, чтобы сдержать военную угрозу более развитых соперников. Класс был политизирован только потому, что это была мультигосударственная система соперничества. Теоретическое заключение Скочпол состоит в том, что государство имело две автономные детерминанты. Как утверждает Хинце, «это, во-первых, структура социальных классов и, во-вторых, внешний порядок государств…». Поскольку внешний порядок автономен по отношению к классовой структуре, государство несводимо к социальным классам (Skocpol 1979: 24–33).
Хотя я согласен с этими эмпирическими утверждениями и заключениями, я предпочел бы поставить их в более широкие исторические и теоретические рамки. Автономия власти государства не является постоянной. Как мы видели в начальных главах, средневековые государства обладали крайне малой