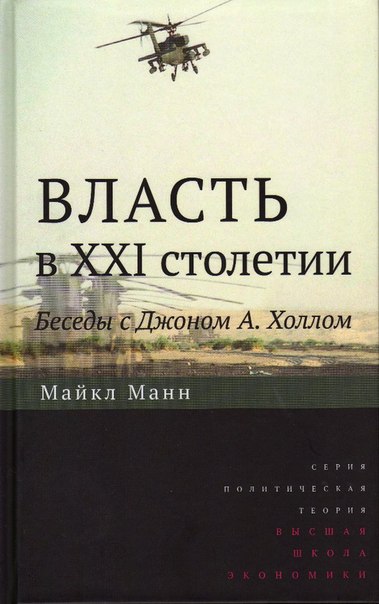Европы. К 1477 г., когда обрушилось великое (и преимущественно нетерриториальное и ненациональное) герцогство Бургундия (что подробно изложено в главе 13), социальная жизнь была отчасти «натурализована». В главе 14 мы бегло взглянули на то, что будет центральной темой тома 2,— национальные государства (позднее — нации-государства), которые уже стали господствующим социальным актором наряду с социальными классами. Взаимоотношения между нациями-государствами и классами будут центральной темой тома 2. Но если современные нации-государства действительно уничтожат человеческое общество в ядерном холокосте, то причинно-следственный процесс может повернуться вспять (если, конечно, кто-нибудь выживет, чтобы заниматься социологией) по направлению скорее к непреднамеренной реорганизации власти слабых, но множественных государств. Способность государственной власти к переоформлению территориального масштаба человеческих обществ иногда достигала колоссальных размеров. Возможно, это был предел указанной способности.
Необходимо отметить еще один набор особенностей политической власти — ее отношение к другим источникам власти. Как я отметил в главе 1, многие теоретики до меня утверждали, что политическую и военную власть можно рассматривать как идентичные. Хотя мы видели примеры, где это было не так, между ними, без сомнения, существует тесная взаимосвязь. Концентрация и централизация часто совпадают, как это происходит и с физическим принуждением, и с принуждением, проистекающим из монопольной регуляции ограниченной территории. Государства в целом стремятся к большему контролю над военными силами, а самые сильные государства обычно достигают практически монопольного контроля над ними. Ниже я прокомментирую это совпадение. Между политической и трансцендентальной идеологической властью, наоборот, существует что-то вроде обратной связи, как мы могли наблюдать в главах 10 и 11. Могущественные государства — древние и современные, вероятно, боятся даже больше, чем любого из своих оппонентов, того, что идеологические движения смогут установиться поверх их официальных каналов и границ.
Особенности каждого из ресурсов власти и их комплексное взаимодействие будут более подробно освещены в томе 3. Здесь я затронул их только для того, чтобы показать сложности, стоявшие на пути любой общей теории источников власти как независимых «факторов», «измерений» или «уровней» обществ, которые мы находим, например, в марксистской и неовебери-анской теориях. Источники власти являются различными организационными средствами, полезными для социального развития, но каждый из них предполагает существование и взаимосвязи с другими в различной степени. Эти «идеальные типы» встречаются в социальной реальности крайне редко. Реальные общественные движения обычно смешивают элементы большинства, если не все источники власти, в более общие конфигурации власти. Даже если один источник власти временно преобладает, как в примерах, приведенных выше, он возникает в социальной жизни, используя свои «путеукладческие», реорганизационные возможности, и затем его все труднее отделить от социальной жизни. Я вернусь к этим более общим конфигурациям позднее.
Более того, не существует очевидных общих паттернов взаимодействий источников власти. Например, к настоящему моменту вполне очевидно, что этот том не подтверждает общих положений «исторического материализма». Отношения экономической власти не представляют собой «финальной истины в последней инстанции» (по выражению Энгельса), история не является «бесконечной чередой способов производства» (Ва-libar 1970: 204), классовая борьба не является «двигателем истории» (по выражению Маркса и Энгельса). Отношения экономической власти, способы производства и социальные классы появляются и исчезают в исторических записях. В случайных всемирно-исторических движениях они решающим образом реорганизуют социальную жизнь; обычно они важны в сочетании с другими источниками власти, иногда они сами становятся объектом реорганизации с их стороны. То же самое можно сказать обо всех источниках власти: они приходят и уходят, появляются и исчезают из исторических записей. Поэтому особенно решительно я не могу согласиться с Парсонсом (Parsons 1966: 113), который пишет: «Я культурный детерминист… я верю, что… нормативные элементы более значимы для социального изменения, чем… материальные интересы». Нормативные и прочие идеологические структуры различаются по своей исторической силе: мы просто не найдем идеологического движения огромных реорганизующих мир сил раннего христианства или ислама во многие исторические эпохи и в обществах, что не отрицает их могущества в тот момент всемирно-исторического времени, когда они действительно изменили мир. Также неверно, как заявляли Спенсер и другие теоретики войны, что военная власть была решающим «путеукладчиком» в экстенсивных доиндустриальных обществах. Главы 6 и 7 демонстрируют массу исключений, самыми примечательными из которых выступают Греция и Финикия. Политических детерминистов не так много. Но их аргументы также были бы ограничены историческими приливами и отливами политической власти.
Поэтому нас, вероятно, сносит обратно к своего рода агностицизму, который однажды определил Вебер в своем неповторимом стиле переменчивой уверенности относительно отношений между экономическими и прочими «структурами социального действия»:
Предвзятым является даже то утверждение, что социальные структуры и экономика «функционально» связаны между собой — его невозможно исторически обосновать, если допустить недвусмысленную взаимозависимость. Причина в том, что, как мы снова и снова убеждаемся, формы социального действия следуют «собственным законам», кроме того, в каждом конкретном случае они могут определяться несколькими причинами, причем не обязательно экономическими. Тем не менее в какой-то момент экономические условия становятся важными и зачастую даже определяющими почти для всех социальных групп, включая те, которые обладают решающим культурным значением. И наоборот, экономика, как правило, также испытывает влияние автономной структуры социального действия, в рамках которой она существует. Никаких существенных обобщений относительно того, когда и как это происходит, сделать нельзя [Weber 1968: I, 340; подобное утверждение можно найти в I, 577; курсив мой, — Af.M.J.
Неужели не существует никаких паттернов приходящего и уходящего? Я полагаю, что некие полупаттерны все же существуют и их необходимо обозначить. Я начну с наиболее общего, всемирно-исторического развития в целом. Затем я рассмотрю паттерны, которые различимы внутри него. Наряду с этим я продемонстрирую потенциальные паттерны, которые часто составляют важную часть социальных теорий.
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
На протяжении всего тома социальная власть продолжала свое развитие, хотя и до определенной степени неустойчиво, но тем не менее кумулятивно. Человеческие способности к коллективной и дистрибутивной власти (как они были определены в главе 1) увеличились в количественном отношении на протяжении периодов, которые я рассматривал. Позднее я уточню это тремя путями: указав на то, что ее развитие часто было результатом случайного стечения обстоятельств, что этот процесс был внутренне неравномерным, а также географически подвижным. Но в настоящий момент давайте остановимся на факте развития.
Рассмотренная в крайне долгосрочной перспективе инфраструктура, доступная для властей предержащих и обществ в целом, постепенно возрастала. Множество различных обществ внесли в это свой вклад. Но однажды изобретенные основные инфраструктурные технологии практически никогда не исчезали из человеческих практик. Хотя верно и то, что часто ранее возникшие технологии власти не подходили для проблем последующего общества и потому исчезали. За исключением полностью устаревших, их исчезновение было временным, и