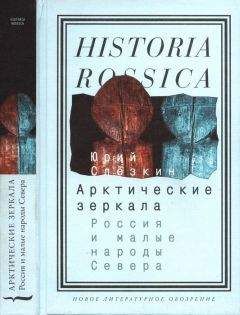Ознакомительная версия.
Они суть люди полудикие, а некоторые даже и совсем дикие. Люди не знающие собственной своей пользы; в невежестве и уничижении обретающиеся; а следовательно по одному уже долгу христианскому надлежит заботиться об улучшении их положения; тем еще более, когда к сей причине присоединяется еще и то обстоятельство, что они в нашем Государстве, в нашем отечестве обитают. А потому да сделаются они нашими братьями и да перестанут коснеть в жалостном своем положении{368}.
Единственным способом достижения этой цели для кочевников и бродячих инородцев было сделаться оседлыми и заняться сельским хозяйством. Средства, предложенные Пестелем, — создание туземных административных единиц, миссий и хлебных запасов{369}, — не очень сильно отличались от положений Устава. Главным различием между двумя документами были приверженность Сперанского и Батенькова принципу постепенности и их вера, что рано или поздно история сама приведет коренные народы к объединению с русскими{370}.
От сострадания сжимаются сердца.
Ах, добродетель! Жалко храбреца!
Томас Дэй. Умирающий негр[43] Инородцы как соседи и данники как должники
К концу 1850-х годов Российская империя приумножила число своих бродячих подданных, присоединив бывшие китайские владения по Амуру и Уссури. Более того, официально Российская империя присоединила земли по Амуру и Уссури именно потому, что на них проживала часть ее бродячих подданных. Согласно А.Ф. Миддендорфу, который возглавлял экспедицию Академии наук в Сибирь в 1842—1845 гг., многие тунгусы, жившие по ту сторону русско-китайской границы, платили дань русским казакам, что делало их де-факто российскими подданными, а их охотничьи угодья — де-факто российской территорией{371}. Это известие было радостно встречено генерал-губернатором Восточной Сибири И.И. Муравьевым, которого беспокоило проникновение англичан в Восточную Азию, капитаном императорского флота И.Г. Невельским, который стремился доказать, что устье Амура судоходно, иркутскими купцами, которые жаждали получить свою долю при разделе Китая, и всеми теми российскими патриотами — от великого князя Константина Николаевича до ссыльных подопечных Муравьева, — которые мечтали о превращении России в азиатскую сверхдержаву. Амур должен был стать для России новым Эльдорадо, хлебной житницей и удобным выходом к Тихому океану, а коренные жители Приамурья (всего около 15 600, включая 11 700 охотников и собирателей)[44] должны были обеспечить юридическое обоснование и Бремя Белого Человека{372}. Более или менее полномочный посол российского империализма на Амуре, И.Г. Невельской, записал как символически значимую свою произнесенную перед небольшой группой нивхов-рыбаков и маньчжуров-торговцев речь об исторических правах России на Амур. Он использовал присутствие тунгусских переселенцев на Сахалине как доказательство постоянного присутствия на острове «подданных России» и всячески старался «внушить» инородцам «понятие о праве и старшинстве»{373}.
Впрочем, как только аннексия свершилась, значение местных инородцев сократилось вплоть до полной незаметности. Даже Ричард Маак, чьи «Путешествия по Амуру» содержат детальные и сочувственные описания коренного населения, называл вновь приобретенные земли «почти полностью пустыми», когда речь шла об имперской экономике и администрации{374}. Чтобы приамурские территории могли считаться землей обетованной, им надо было быть девственными сегодня и русскими завтра. Сразу после перехода левобережья Амура к России был создан специальный Амурский казачий полк, на эти земли переселили большие группы ссыльных, и тысячи крестьян получили там государственные земли, правительственные ссуды и отсрочки от налогообложения и военной службы. Десятью годами позже на Амуре было втрое больше русских, чем «амурских народов»{375}. В то время как крестьянское «переселение» (и поддерживаемое государством, и нелегальное) неуклонно ширилось, «дальневосточные» охотники и собиратели были слишком малочисленны, чтобы фигурировать в разнообразных проектах поземельного устройства, и обычно считались слишком «бродячими», чтобы нуждаться в земле{376}. В результате многие из них были вытеснены из мест традиционного обитания, умерли от оспы или пересекли государственную границу{377}. Даже лозунг «желтой угрозы», популярный на рубеже столетий, относился не к коренному населению Приамурья, а к китайцам и корейцам{378}.[45]
За пределами Приамурья усилия Российского государства в деле модернизации, колонизации и экспансии были гораздо менее заметны бродячему населению. Зона новых поселений не достигала шестидесятой параллели, а Переселенческое управление определяло девять десятых Сибири как «совершенно необитаемые и малоисследованные местности»{379}. На пике миграционного периода, в 1897—1911 гг., русское население Якутии сократилось с 30 007 до 18 035 (приблизительно до 7% от общего населения губернии){380}. Вести сельское хозяйство было по большей части невозможно; поставки пушнины продолжали снижаться; а после продажи Аляски в 1867 г. регион в значительной степени утратил свое стратегическое и коммерческое значение. Управление большинством заполярных областей было сопряжено со значительными трудностями. Неуклонно убывающая дань пушниной оставалась собственностью императорского дома, а налоги, собранные в государственную казну, не могли покрыть расходов на содержание местных священников, казаков и чиновников. Выплата жалованья служащим была единственной формой государственных инвестиций, и, будучи предоставлены сами себе, русские и коренные обитатели вступили на путь взаимной адаптации.
Русские «старожилы» Арктического побережья — записанные как крестьяне, мещане, казаки или купцы — были преимущественно охотниками, рыболовами и мелкими торговцами. В зависимости от места жительства они переняли юкагирские, угорские, корякские или якутские методы хозяйствования, орудия труда, пищу, одежду, духов и шаманов. Многие каждую весну голодали, а некоторые вспоминали Ермака как чужеземного захватчика. Многие говорили на местных языках, а некоторые не говорили по-русски{381}. Не все «старожилы» считали себя русскими, и не все путешественники признавали их таковыми. В ходе переписи 1897 г. члены якутоговорящего усть-оленекского рода на вопрос об их народности ответили: «крестьяне». Очевидно, их принадлежность к крестьянскому сословию и форма налогообложения были их единственным отличием от соседей (соседи между тем считали их якутским родом с особыми колдовскими способностями){382}. Один русский налогоплательщик из Нижнеколымска подал в местное правление прошение, чтобы ему позволили стать чукчей. С его точки зрения, вся разница состояла в числе и качестве поборов{383}. В некоторых областях Западной Сибири термин «ясачный человек» стал обозначать любого охотника{384}, а большинство членов старожильских общин на северо-востоке называли себя по месту жительства: «марковцы», «гижигинцы» и т.п. Среди них были налогоплательщики различных разрядов, а также бывшие юкагиры или коряки, которые по-прежнему записывались как инородцы, но стали полноценными «марковцами» или «гижигинцами». На Камчатке термин «камчадал», в прошлом использовавшийся для обозначения коренных жителей — ительменов, теперь применялся ко всем обитателям полуострова, занимавшимся ловчими промыслами. Правовой статус и родственные связи оставались важными для самоидентификации внутри группы, но для внешнего мира все они были «камчадалами»{385}. Внешний мир состоял преимущественно из «русских» — в первую очередь чиновников, купцов, священников и ссыльных — и соседних кочевников или «бродячих» народов, которых старожилы считали не инородцами вообще (некоторые из старожилов сами были инородцами, т.е. данниками), но чукчами, тунгусами и так далее[46]. Кое-где в низовьях Енисея коренные жители-мужчины откликались на обращение «Василий Иванович»{386}.
Наиболее важной связью между этими тремя группами была торговля, в которой старожилы служили посредниками между русским миром городов и деревень и кочевым миром тайги и тундры. Способы осуществления сделок мало изменились по сравнению с практикой XVIII в. Торговцы из числа старожилов (в большей или меньшей степени почти все старожилы были торговцами) приобретали спиртное, табак, чай, муку, боеприпасы, одежду, иглы, бусы, топоры, котелки, ножи и другие товары у заезжих купцов из Иркутска, Енисейска, Тобольска или Архангельска. Затем они приезжали в стойбища туземцев, ждали прибытия кочевников в своих поселениях или посещали регулярно проводившиеся ярмарки — например, в Олекминске, Анюе или Обдорске. У каждого торговца были свои туземные «друзья», которые были обязаны поставлять ему всю свою продукцию (в основном пушнину, рыбу, бивни мамонта и шкуры северного оленя), а в остальное время полагались на его кредит{387}. Согласно Кастрену, например, на Обдорской ярмарке «толпы сынов и дщерей тундр… казались праздными посетителями рынка, потому что не приносили на него никакого товару. Но мне говорили, что под оттопырившимися шубами скрывались черные и бурые лисицы и кое-что еще. Товар этот показывался, однако ж, не каждому, продавец пробирался тайком к какому-нибудь приятелю и тут после надлежащего угощения показывал ему свои богатства»{388}.
Ознакомительная версия.