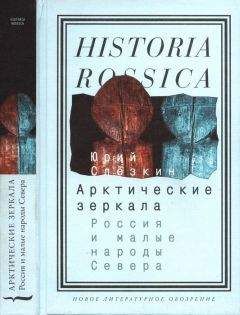Ознакомительная версия.
Наиболее важной связью между этими тремя группами была торговля, в которой старожилы служили посредниками между русским миром городов и деревень и кочевым миром тайги и тундры. Способы осуществления сделок мало изменились по сравнению с практикой XVIII в. Торговцы из числа старожилов (в большей или меньшей степени почти все старожилы были торговцами) приобретали спиртное, табак, чай, муку, боеприпасы, одежду, иглы, бусы, топоры, котелки, ножи и другие товары у заезжих купцов из Иркутска, Енисейска, Тобольска или Архангельска. Затем они приезжали в стойбища туземцев, ждали прибытия кочевников в своих поселениях или посещали регулярно проводившиеся ярмарки — например, в Олекминске, Анюе или Обдорске. У каждого торговца были свои туземные «друзья», которые были обязаны поставлять ему всю свою продукцию (в основном пушнину, рыбу, бивни мамонта и шкуры северного оленя), а в остальное время полагались на его кредит{387}. Согласно Кастрену, например, на Обдорской ярмарке «толпы сынов и дщерей тундр… казались праздными посетителями рынка, потому что не приносили на него никакого товару. Но мне говорили, что под оттопырившимися шубами скрывались черные и бурые лисицы и кое-что еще. Товар этот показывался, однако ж, не каждому, продавец пробирался тайком к какому-нибудь приятелю и тут после надлежащего угощения показывал ему свои богатства»{388}.
Надлежащим угощением была водка, без которой не могла состояться ни одна коммерческая сделка, — как из-за страстных настояний звероловов, так и из-за трезвого расчета купцов. Торговля спиртным теоретически была незаконной, но практически — повсеместной, и даже Иннокентию Толмачеву, главе официальной экспедиции Академии наук на Чукотку, якутский губернатор посоветовал взять с собой запас алкоголя: без этого, как выразился губернатор, члены экспедиции «не смогут путешествовать среди чукчей»{389}. Согласно И.С. Полякову, обычная процедура торговли в низовьях Оби выглядела так: «дайте сначала остякам по чашке водки хорошей — даром; первую бутылку — за 1 рубль; две вторые, наполовину с водой, — по полтора рубля за каждую; следующие три бутылки чистой воды по два рубля, и остяки уйдут совершенно пьяные»{390}.
Сам обмен часто производился за закрытыми дверями, в доме купца или в юрте охотника. «Является к продавцу остяк со шкурками, уговаривается о цене каждой и раскладывает десяток их на полу юрты; покупщик кладет на каждую шкурку условленную плату; остяк собирает деньги, а покупщик — шкурки. Когда продажа всех шкурок остяком кончена, начинается тем же способом покупка товаров продавца»{391}.
Обычно все товары обменивались напрямую, но постепенно все больше и больше охотников оказывались вовлеченными в денежные отношения. Из-за различий между ценами, установленными государством, и ценами, которые назначали купцы, инородцам было выгоднее продавать свою пушнину, рыбу или рабочую силу купцам, а затем платить дань в денежном исчислении (с ростом широкомасштабного рыболовства на Севере становилось больше денег){392}. Впрочем, сбыт товаров по определенной цене был большой редкостью. Практически все туземные охотники, рыболовы и оленеводы были в долгу у торговцев, так что каждая сделка представляла собой выплату долга, новую ссуду или часть отношений найма{393}. Например, старожилы деревни Шеркалинское владели рабочей силой всех туземцев, живущих между Кондинском и Березовом в низовьях Оби. В обмен на обеспечение своих «друзей» продуктами, одеждой, орудиями труда и оружием (а также на уплату их дани) они имели исключительное право на всю их продукцию и арендовали большую часть их рыболовных угодий{394}.[47] На Енисее некий Кобачев официально просил правительство легализовать подобную ситуацию и предоставить ему исключительные права на весь Туруханский регион{395}.
Проводившиеся государством антимонопольные меры не помогали. Согласно В.К. Бражникову, заведующему рыбными промыслами Приамурского управления государственными имуществами,
приходится гиляку волей-неволей, чтобы прокормить семью и собак, идти к знакомому промышленнику забирать у него в долг товары, негодные, втридорога, тогда как рядом в лавке можно бы купить и лучше и значительно дешевле; но ведь кто же кроме рыбопромышленника будет принимать в расплату рыбу, да еще верить в долг гиляку, живущему за несколько десятков верст? Промышленник же очень рад заранее обеспечить себя рыбой; дает сколько нужно, да еще и водкой поит, чтобы только гиляк не пошел к конкуренту{396}.
Хотя и казавшиеся довольно сонными по сравнению с быстро меняющимся Югом, заполярные регионы Российской империи не были полностью изолированы от новых тенденций экономического и политического развития. Бродячие инородцы сдавали свои рыболовные угодья в аренду крупным судовладельцам; уступали свои охотничьи угодья на Лене, Енисее и Байкале золотоискателям; меняли маршруты своих кочевок, чтобы обойти стороной новые поселения{397}. Там, куда российские подданные не могли или не хотели добраться, было кому занять их место. Разрастающееся китайское население Северной Маньчжурии доминировало в торговле на Амуре, американские китобои и торговцы стали важнейшими торговыми партнерами чукчей, а итогом Портсмутского мирного договора 1905 г. стал переход Южного Сахалина к Японии и фактический контроль японцев над рыболовством в Охотском море{398}.
Не все перемены вызывались действиями русских и их конкурентов из великих держав. На северо-западе большие стада ненецких оленеводов оказались во владении коми, на северо-востоке многие тунгусы и юкагиры перешли на якутский язык, а на Таймырском полуострове российские чиновники обособили четыре говорящих по-якутски тунгусских рода в особый народ — долган (само это население сохраняло родовую самоидентификацию и не имело общего самоназвания){399}.[48] Но, как и прежде, наиболее глубокие экономические и социальные последствия вызывало внешнее влияние. Болезни, внедрение новых технологий, уничтожение лесов, истребление животных и административное давление вынуждали большие массы людей мигрировать в новые районы или модифицировать свою хозяйственную деятельность{400}. Некоторых ясачных людей переселили насильственно, чтобы они обслуживали почтовые тракты; некоторым таежным охотникам пришлось перейти к оленеводству; некоторые собиратели вынуждены были стать ямщиками, проводниками или торговцами; а от некоторых традиционных методов рыболовства и охоты пришлось отказаться, поскольку российские чиновники считали их варварскими{401}. В той или иной мере все бывшие «иноземцы» освоили новые умения и приобрели новые жилища, орудия труда и одежду. Социальный статус все в большей степени ассоциировался с обладанием привозными промышленными товарами; охотничья удача зависела от доступности огнестрельного оружия (равно как от помощи иконы Николая Чудотворца); а русская медицина славилась колдовской силой{402}. («Русский бог сильнее гиляцкого, значит, и русский шаман сильнее гиляцкого», — говорили Штернбергу его друзья-гиляки о врачах{403}.)
Миграции, эпидемии и новые хозяйственные занятия влияли на величину и состав туземных сообществ. Зараженных сифилисом коряков избегали и считали неприемлемыми партнерами для брачных союзов; угорские общины начали принимать русских, а некоторые тунгусские охотничьи отряды могли включать членов разных родов{404}. Фиктивные родовые группы, учрежденные российскими властями в фискальных целях, могли стать реальностью, поскольку их члены сообща платили дань, строили дороги и доставляли почту. Увешанные медалями «князцы», поддерживаемые администрацией и осмеиваемые путешественниками, предпочитавшими «неиспорченных» туземцев, могли успешно использовать связи с русскими в политических целях{405}. Знание русского языка могло стать важным критерием компетентности в сфере обычного права, а обращение к российской полиции — важным фактором в решении местных споров{406}.
Когда правительство побуждало инородцев сохранять владение своими землями, понятие земли и характер владения могли интерпретироваться по-разному, но окончательное решение выносило правительство, и некоторые таежные сообщества считались с этим. На Амуре, к примеру, большие нанайские роды начали ставить специальные знаки, чтобы обозначить «свои земли» в районах, где до 1880-х годов мог охотиться кто угодно{407}. Более значимой (но реже обсуждавшейся) правительственной политикой было предоставление прав и обязанностей «инородца» лишь половине коренного населения. В то время как российские путешественники ужасались униженному положению женщины в туземных сообществах, имперская данническая система продолжала углублять неравноправие. Дань платили только мужчины, поэтому для Российского государства юридически существовали только мужчины: если убивали туземного мужчину и туземную женщину, администрацию прежде всего беспокоило первое{408}. Даже в тех регионах, где женщины работали по найму (на засолке рыбы, дублении кож или в проституции) или где под влиянием миссионеров девочек отдавали в школу, ничто не могло сравниться с универсальной и свято исполнявшейся обязанностью платить дань.
Ознакомительная версия.