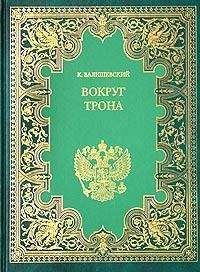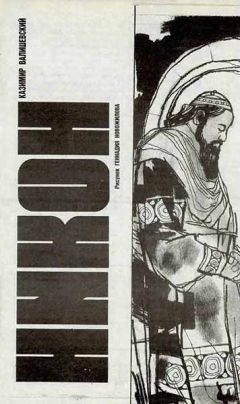Екатерина – это достоверно – уже в то время принимала в нем участие и выражала это довольно странно. Можно бы предположить, что она уже тогда подготовляла участь будущего вице-императора. Позднее она любила называть его своим учеником, и, действительно, в это время заботилась о пополнении образования не докончившего курс студента. В августе 1763 г. она, оставляя его на военной службе, причисляет к одному из департаментов в Сенате, повелевая в указе о нем своим сенаторам познакомить молодого Потемкина со всеми делами. В следующем сентябре она составляет инструкцию, предназначенную для того, чтобы указать выбранному ею ученику лучший способ приобрести наибольшее количество познаний, необходимых в его новом положении. Она назначает ему преподавателя французского языка де Вомаль де Фаж, дворянина из Виварэ, расстриженного монаха, служившего при Дюплэ в Пондишери и женившегося неизвестно на ком. Впоследствии он был секретарем фаворита. Прослужив у бывшего своего ученика, сделавшегося князем и всемогущим министром, двадцать три года, де Вомаль возвратился во Францию и в пятьдесят лет имел: «бодрые ноги, хорошие глаза, здоровье и веселость». Потемкин впоследствии имел всегда на своем «basse cour»,[28] – как выражалась Екатерина, – уроженцев страны, к которой он в других случаях не питал большой симпатии. В числе их был врач Массо, с которым князь никогда не расставался, адъютант, шевалье де ла Тессовье, принесший пользу французской дипломатии, поэт Деста, имевший доступ в Эрмитаж, как сочинитель «пословиц». Потом Деста перешел на службу к принцу Нассау и бежал во Францию во время революции.
Не надо забывать, что в ту минуту, когда Екатерина так сильно заботилась об образовании своего двадцатитрехлетнего протеже, фавор Григория Орлова был в апогее. Когда началась турецкая война, Потемкин возвратился в 1769 г. к военной карьере; и быстро двинулся на этом пути: в 1773 г. он был уже генерал-поручиком.
Но кажется в это время в милости Екатерины он двигался не так быстро. Она как бы забыла о нем. Десять лет прошло с тех пор, как он был введен в ее интимный круг; в это время Григорий Орлов нераздельно господствовал в сердце своей царственной возлюбленной, а Потемкин имел несчастье или неловкость поссориться с фаворитом, особенно с его братом, грубым богатырем Алексеем. Ссора за бильярдом кончилась потасовкой, из которой ученик Екатерины вышел искалеченным. Заметим однако, что по другим свидетельствам эта катастрофа произошла от случайности. Во всяком случае, потеря глаза признана историей. С единственным глазом, да и тем косым, Потемкин бежал от двора. Говорят, он даже подумывал пойти в монастырь. Друзья – по одной версии, бывшей тогда в ходу, сами Орловы – отговорили его от этого намерения и привели снова к Екатерине. Он исполнил их просьбу, не преминув воспользоваться этим случаем, чтобы возобновить с еще большим искусством сентиментальную комедию, прежде так хорошо удававшуюся Григорию Орлову. Екатерина охотно дала себя убедить, что мысль уйти от мира и затвориться в монастыре была внушена ее протеже бурной и скрытой страстью к ней. До конца своей жизни она оставалась доступной таким соблазнам и легко поддавалась иллюзии, ложь, которой должна была бы становиться для нее все более и более очевидной. Потемкин, таким образом, посеял в ее воображении и сердце зерно, которое должно было развиться со временем. Но час его еще не настал. Может быть, Потемкин думал, что для достижения его цели и осуществления мечты ему не хватает еще личного престижа, и отправился за ним на войну. Он уехал, предоставив времени приготовить его успех и падение признанного фаворита. Последнее совершилось, но воспользовался этим сначала другой.
В июне 1773 г. утраченное Григорием Орловым положение перешло к Васильчикову, а Потемкин принял участие в сражениях русской армии под стенами Силистра. По-видимому, военное ремесло поглотило его совершенно. Но несколько месяцев спустя он вдруг попросил отпуск и быстро, торопливо покинул армию. Причиной тому было событие, решившее его жизнь: он получил от Екатерины следующее письмо:
«Господин генерал-поручик! Вы, я воображаю, так заняты видом Силистрии, что вам некогда читать письма. Я не знаю до сих пор, успешна ли была бомбардировка, но, несмотря на это, я уверена, что – что бы вы лично не предприняли, не может быть приписано иной цели, как вашему горячему рвению на благо мне лично и дорогой родине, которой вы с любовью служите. Но, с другой стороны, так как я желаю сохранить людей усердных, храбрых, умных и дельных, то прошу вас без необходимости не подвергаться опасности. Прочтя это письмо, вы может быть спросите, для чего оно написано; на это могу вам ответить: чтобы вы имели уверенность в том, как я о вас думаю, так же, как желаю вам добра».[29]
Потемкин ни у кого не спросил разъяснения тайны этого двусмысленного послания. Лучше кого бы то ни было он знал борьбу страстей и интриг, в которых вращались колеблющаяся воля и тревожное сердце государыни, и сразу прочел в этом письме то, о чем она, по-видимому, хотела, чтобы он догадался, то есть: признак и призыв. В январе 1774 г. он был в Петербурге, подождал еще шесть недель, ощупывая почву, укрепляя свои шансы, и 27-го февраля рискнул завязать игру. Он написал императрице письмо, в котором просил милостиво назначить его генерал-адъютантом, «если она считала его услуги достойными». На язык того времени это значило требовать наследства красавца Орлова и Васильчикова. Через три дня получился ответ – благосклонный; 20 марта Васильчиков отправился в изгнание: богато одаренный, он был послан в Москву, и началось царство самого могущественного из фаворитов.
II
В этот момент даже Гримм – по ее выражению, souffre douleur [30] – не мог не сделать своему царственному другу легкого упрека: он находил ее нрав уже слишком непостоянным. – «Почему? – невозмутимо отвечала она. – Держу пари, потому что я отдалилась от некоего превосходного, но чересчур скучного господина, которого немедленно заменил, сама уж, право, не знаю точно как, один величайший забавник, самый интересный чудак, какого только можно видеть в наш железный век». Она была очень довольна своим новым приобретением. «Ах, что за хорошая голова у этого человека! Этот мир – его дело более чем кого-нибудь другого. (Кучук-Кайнарджийский мир с Турцией, подписанный 14 июля 1774 г.), и эта хорошая голова забавна, как дьявол». Она употребляла в письмах к новому фавориту самые фамильярно-нежные выражения. Батенька, голубчик– так и сыпались из-под ее пера, даже в деловых письмах.
Свидетели этой перемены декораций и этого нового увлечения не только не сочувствовали ему, но даже не могли объяснить его себе. Дюран удивлялся при виде генерал-адъютантского мундира на человеке, «поступки которого скандализировали русскую армию и были посмешищем турок». По его словам таинственный способ фаворита входить в покои его возлюбленной и выходить из них служил поводом к насмешкам и остротам караула, смеявшегося над «тайной, имеющей двенадцать ежедневных свидетелей». Григорий Орлов смотрел на него с пренебрежением. «Хотя у нас есть общие дела, – восклицал он при всем дворе, обращаясь к своему преемнику, – но не думайте, что мы близнецы, и я не потерплю, чтобы вы носили мундир артиллерии, в которой я шеф, а вы ровно ничего». Дочь Кирилла Разумовского негодовала на то внимание, с которым ее отец, прежний гетман, обращался с пришельцем. «Я истинно страдаю, когда вижу так мало гордости», писала она своему брату. «Как можно ухаживать за этим гадким слепым, и для чего это?» Один только вчерашний фаворит, Васильчиков, не колебался признавать и ярко выражать превосходство своего соперника: «Положение Потемкина, – говорит он своему другу, передавшему это потом французскому уполномоченному в делах, – совсем иное, чем мое. Я был содержанкой. Так со мной и обращались. Мне не позволяли ни с кем видеться и держали взаперти. Когда я о чем-нибудь ходатайствовал, мне не отвечали. Когда я просил чего-нибудь для себя – то же самое. Мне хотелось аннинскую звезду, я сказал об этом императрице: на другой день я нашел тридцать тысяч в своем кармане. Мне всегда таким образом зажимали рот и отсылали в мою комнату. А Потемкин, тот достигает всего, чего хочет. Он диктует свою волю, он „властитель“.
С последним все были согласны, негодуя или удивляясь влиянию новоприбывшего «Циклопа», как называл его Орлов; но этого влияния никто не отрицал. «Она от него без ума», выражался в разговоре с Дюраном Елагин, «они должны очень любить друг друга, так как вполне схожи между собой». Он рассказывал, как Потемкин устроил свое назначение в Совет. «Приехав сюда, он сейчас же начал говорить со мной о делах с откровенностью, удивившей меня. Он хулил все. Я воспользовался этим, чтобы передать ему то, о чем мы условились. Он слушал меня со вниманием и ответил: „Что же я могу сделать. Я не член Совета“. – Почему же вы не сделаетесь им? – Этого не желают; но я заставлю». Он решился возобновить свою просьбу. Вероятно, воспоследовал отказ, ибо в воскресенье, сидя за столом около него и около императрицы, я заметил, что он не только не говорил с ней, но и не отвечал на ее вопросы. Она была видимо вне себя, а мы сконфужены. Молчание прерывалось только несколькими словами шталмейстера (Нарышкина), которые не могли оживить разговора. Выйдя из-за стола, императрица удалилась к себе и вернулась с красными глазами и расстроенным видом. В понедельник она была гораздо веселее, а Потемкин в тот же день был назначен членом Совета».