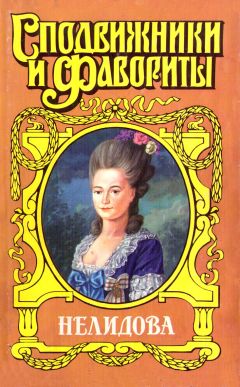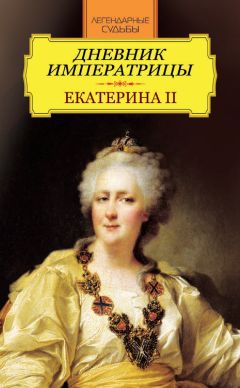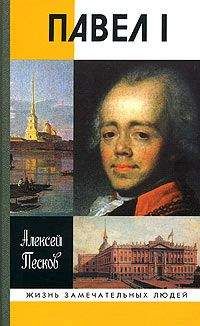— И снова, дядюшка, намерений нашей государыни так просто не разгадать. Намеревается она предоставить вам возможность представить программу монаршего правления, как она шляхетству российскому видится. Кому, как не вам, знать, какие надежды просвещенное шляхетство на власть императорскую возлагает. Государыня о том вам написала, но и изустно передать велела, что ни читать, ни проверять замыслов ваших не будет, а целиком полагается на свое шляхетство, которое в лице ее свою подлинную благодетельницу и радетельницу приобрести может.
— Вот оно что! Озадачил ты меня, Иван Иванович, ничего не скажу. За честь премного благодарен, хоть и не больно уразуметь могу, почему она мне досталась.
— Государыне известно, сколь тесная дружба и доверие связывали вас с покойным пиитом нашим Кантемиром.
— А отколе государыне талант Антиоха Дмитриевича знаком? Ведь по сей день ни стихов, ни тем паче сатир видеть не пришлось. Не по нраву они монархам приходились. Последний раз Антиох Дмитриевич сатиры свои, переделав несколько, посвятил всерадостному восшествию на престол императрицы Елизаветы Петровны. Благодарность получил, а книги нет как нет.
— Государыне в списках сатиры Кантемировы давно знакомы. Особенно она похваляла сатиру седьмую — о воспитании, вам, дядюшка, персонально адресованную.
— Польщен и тронут, однако в одиночку за такой прожект приниматься не стану — помощники нужны.
— И в этом государыня вам полную свободу предоставляет: ни спрашиваться у нее, ни советоваться нужды нет.
* * *
Петербург. Дом Г.Н. Теплова. Теплов и Левицкий.
— Хотел бы в первопрестольной побывать, Дмитрий Григорьевич?
— Хотение великое, да участь горькая. Я ведь сам себе не хозяин, ваше превосходительство.
— Оставь ты с „превосходительством“! Был я для тебя и останусь Григорием Николаевичем, так что не серди ты меня. А ты все с Антроповым. Не засиделся ли? Не Бог весть какой он мастер — не тебе чета.
— Человек он хороший, Григорий Николаевич. Добрый. Работой со мной делится.
— Или твоими руками ее делает. Знаю-знаю я этих добродетелей! И не перечь ты мне, Бога ради. Не хочешь собственной квартирой обзавестись, заказчиков иметь?
— Может, и пора, да все духу не хватает.
— То-то и оно, робкий ты больно, Дмитрий Григорьевич. Потому и хочу, чтобы ты в Москву съездил.
— Работа какая там есть?
— И какая работа! Ее императорское величество апробировала четверо ворот триумфальных соорудить. Ты Москвы не знаешь, так что о местах говорить смысла нет. Одно скажу: на каждых по два портрета государыни в полный рост в туалете большого выхода. Регалии там, драгоценности, как положено. Кругом аллегории, сцены мифологические. Работу эту государыня всю увидит. По ней о тебе судить будет.
— Все мне одному, Григорий Николаевич?
— Нет, брат, такого куска ни один рот не проглотит. Художников на то Канцелярия от строений посылает. Мастеров живописцев трое — Иван Вишняков, Иван Бельский да твой Антропов. Подмастерьев двое — тоже их, поди, знаешь, Алексей Поспелов да Ефим Бельской. Живописцев одиннадцать человек, да, кажись, два ученика.
— А я причем?
— Притом, что по желанию можешь с ними ехать. В бумагах так и напишем: помощник Алексея Антропова. Ты, полагаю, аттестоваться в Канцелярии от строений по-прежнему не намерен?
— Боже сохрани! Я все надежду имею вольным живописцем стать.
— Станешь непременно, а здесь оказия редкая. Я Ивану Ивановичу Бецкому подскажу, чтоб портреты тебе доверил. Канцелярские, они больше украшения писать горазды, а здесь работа тонкая нужна. Видел я твои опыты после занятий у француза-то твоего — отлично ты в живописи продвинулся.
— Да, господину Токкэ я премного благодарен. Жаль, что недолго в Петербурге задержался.
— А зачем ему? У него от французского королевского двора отпуск всего на полтора года. Канцлер Михайла Ларионович сказывал, что даже апартаменты за ним в Лувре оставлены — вот почет какой. Только он от нас, опять же с разрешения французского двора, в Данию, в Копенгаген проследовал всю королевскую фамилию живописать. Жаль, не очень покойной государыне Елизавете Петровне по вкусу пришелся. Куда ему до Ротария!
— Не знаю, правда ли, но художники сказывали, будто сотни три его женских головок государыня приобрести изволила.
— Еще какая правда. Целый кабинет ими от потолка до полу завесить велела.
— Что так? Ведь живописи жалко. Оно каждый портрет следует в отдельности рассматривать.
— На то государская воля. Спасибо, ты этой манере не належишь.
— Рад бы — не получится. Меня в людях разность привлекает. Будто у каждого свою загадку разгадать можешь.
— А вот пока суд да дело, ты без загадок ее императорское величество преотличнейшим манером представить должен.
— Сколь могу, постараюсь.
— Старайся-старайся, Дмитрий Григорьевич, стоит того. И еще одно. Дам я тебе рекомендательное письмо к господину Хераскову Михайле Матвеевичу. Человек он образованнейший, достойнейший, таланту поэтического отменного.
— Работа у него какая?
— Никакой работы, Дмитрий Григорьевич, знакомство одно. Тебе с твоей образованностью да пониманием просвещения непременно ему представиться надо. Пригласит — бывай непременно.
— За протекцию премного благодарен.
— Покуда благодарность истинную ко мне питаешь и на преданность твою полагаться могу, помогать буду. А теперь, чтоб конфузии какой тебе не иметь, послушай, что к чему. О каждом человеке допрежь знакомства все вызнать следует: какие обстоятельства жизни его, какой характер имеет. Тогда и подход верный найти можно, а уж коли бы ты в портретисты пошел, то тут без дознания такого и вовсе делать нечего.
— Для портретиста?
— А как ты думал? Увидел по первому разу человека, тут все о нем и понял? Нет, братец, по первому разу тебе туалет да бриллианты больше займут. Вот коли ты уже про персону данную известия собрал, так и смотреть иначе станешь. Думаешь, сам до мыслей таких дошел? Нет, от преосвященного Феофана слышал. Мудрейший человек был, все меня при себе держал, поучал. Семнадцать годков мне стукнуло, как преосвященный преставился.
— И не грозен был преосвященный?
— Грозен? Не иначе болтовни ты в Канцелярии от строений наслушался. Знаю-знаю, винили преосвященного, что в Тайной канцелярии присутствовал, что пыточные вопросы составлял, с кого из пытаемых что спрашивать.
— Об Иване Никитине еще говорили.
— Сколько лет в одиночном заключении в крепости просидел?
— И что только тогда приговор ему вышел, как скончался преосвященный, а так все допрашивали его и пытали.
— Не вникал и вникать не стану. Тайная канцелярия дела государственные решает, а мы с тобой про портреты толкуем. Одно другому не помеха.
— Так полагаете?
— И полагать нечего. Философ и палачом быть может, ибо занятие сие его умственному взору не помеха. Взор его выше земной юдоли парить может, а казни во все времена были и будут. Что ж ты полагаешь, просвещенный монарх лютее непросвещенного быть не может? Может, и, если хочешь знать, должен.
— Лютее?!
— Так ведь он более дальнюю перспективу зреть может. Оттого ему и вред от одного человека понятнее. А преосвященный почитал, что для России единое благо — самодержавие, и никаких ограничений ему делать невозможно. Потому когда шляхта решила самовластье государыни Анны Иоанновны ограничить и в том особые Кондиции сочинило, его преосвященство о том государыню, в то время еще в Курляндии находившуюся, во благовременье известил и с амвона самодержицей провозгласил. Оттуда ему и доверие великое было. Государыня на него как на каменный столп полагалась. Знала, шляхетство может в свою пользу козни всяческие строить, да никто против хитрости ума преосвященного не выстоит. А Никитин Иван — он партию целую сколотил, факция называлась, чтобы государыниной воле предел положить. Кабы одни портреты писал, так и, может, и по сей день жив бы был. На что замахнешься, от того и смерть примешь. Разве не так?
— Не думал я об этом, Григорий Николаевич.
— И впредь не думай. Художнику от мыслей никогда еще пользы не бывало. Ты душой и мыслям к просвещению народному прилежишь, и отлично. На том и с Михайлой Матвеевичем сойтись должен. Полагаю, большая тебе от того польза может быть.
* * *
Москва. Дом Н.Ю. Трубецкого. Трубецкой и М.М. Херасков.
— Ну, здравствуй, Михайла, здравствуй. Давненько не видались. Врать не хочу, скучал по тебе и твоему семейству, а от матери и толковать нечего.
— Батюшка, Никита Юрьевич, оповещены были о вашем приезде, со дня на день ждали.
— Вот видишь, на старости лет какая честь твоему вотчиму досталась: верховный маршал при коронации государыни!