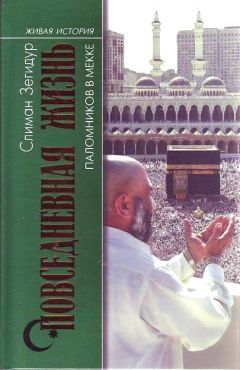Несколько недель спустя он возвращался в Петербург по Московскому шоссе и с удовольствием отдыхал в почтовой станции на Валдае, точнее — в селе Зимогорье, расположенном на возвышенности на западной окраине города Валдая.
«В шесть часов утра мы проснулись в большом и симпатичном местечке Валдай. Почтовая станция здесь чрезвычайно опрятная и красивая, а из ее окон мы могли видеть большое, очень живописное озеро с лесистыми берегами и островами» (203, 113).
* * *
Сарказмы по поводу состояния русских дорог и почтовых станций отражали общий критический настрой сочинения Кюстина и его предшественников, путешествовавших по России. Однако всякая предвзятость вызывает протест у ревнителей объективности. Лет за десять до Кюстина английский офицер Джеймс Александер по дороге от Петербурга до Новгорода рассуждал более оптимистически.
«В отличие от некоторых путешественников, которые не видят в России ничего положительного и находят удовольствие в том, чтобы жаловаться на отсутствие удобств (тогда им бы лучше сидеть дома, а не ездить за границу и глядеть вокруг через очки предубеждения), отмечу, что на каждой станции мы утоляли голод в трактирах не только вкусными, но и хорошо подаваемыми блюдами» (6, 95).
Впрочем, даже такой адепт беспристрастия, как Александер, не может обойти молчанием довольно неприглядные и непривычные для иностранца картины, открывавшиеся на почтовой станции.
«В трактирах и на почтовых станциях можно видеть спящих слуг и ямщиков. Они лежат в овчинных шубах прямо на ступеньках либо на полу в коридоре, рядом со свиньями. На спящих, как на насестах, сидят куры. Я никогда не встречал людей, столь безразличных к тому, где им придется спать, как русские мужики. Да и люди высших сословий не особенно привередливы: если вечером они попадают на постоялый двор, то укладываются прямо на лавки, и слуги укрывают своих господ одеждой.
Каким разительным контрастом будет сравнение русских слуг с английскими, тяга последних к роскоши достигла такой степени, что они не успокоятся до тех пор, пока не получат пуховую постель!» (6, 97).
* * *
Не только иностранцы, но и сами русские высказывались о своих путевых обстоятельствах откровенно и резко. Убожество русских почтовых станций и их порядки особенно бросались в глаза путникам, возвращавшимся в Россию из-за границы. «Придирки, прижимки, холод, голод, дороговизна неприятным образом напомнили нам, что мы в отечестве, дорогом, милом, но угнетенном отечестве, — писал Иван Аксаков в письме своему другу М. Ф. Раевскому от 9 января I860 года. — Сестру Веру ухабы до такой степени расколотили и расстроили, что мы вынуждены были отдыхать по ночам на сквернейших станциях» (4, 216).
В этих словах скрыта саркастическая усмешка. Каждый русский знал, что такое «отдыхать по ночам на сквернейших станциях». Даже вспоминать об этом привычном «отдыхе» было тягостно. Вот как описывает свой ночлег на почтовой станции близ Себежа (лето 1839 года) Эуген Хесс.
«Лишь поздно вечером мы добрались до стоящей совсем одиноко станции Нестери, где остановились на ночь. Пока мы пили чай, выяснилось, что лошади здесь есть только для одной упряжки. Но так как мы намеревались уже рано утром быть на первом поле сражения — в Клястицах, то было решено, что отец с полковником Яковлевым отправятся туда, чтобы заняться там рисунками, а генерал Киль и я дождемся здесь возвращения лошадей и присоединимся к ним позднее.
Сразу же после чая они уехали. Генерал и я остались в комнате. Ее деревянные стены были покрашены белой краской, и в сравнении с комнатой в Резедни она была не так уж и плоха, но в силу стечения различных обстоятельств оказалась местом более чем неприятным.
Генерал переоделся из сюртука в просторную вишнево-красную куртку, поставил на стол две свечи, уселся на стуле, вытянув ноги, и погрузился в чтение книги. Я закутался в свою шинель и устроился на широком, деревянном канапе, чтобы поспать. В комнате с низким потолком из-за жары трудно было дышать, но снять шинель было совершенно невозможно, потому что только ею можно было хоть как-то защититься от мириад мух и комаров. От других маленьких чудовищ не спасало ничто.
Генерал не двигался, лишь его глаза перебегали со строчки на строчку. Извертевшись с боку на бок на канапе без всякого толку и убедившись, что только мешаю генералу и начинаю его раздражать, я встал и вышел из дома на свежий воздух. Была прекрасная, безлунная, звездная ночь. Я немного погулял, пару раз споткнувшись в темноте, а потом вернулся в комнату.
Генерал Киль был все в том же положении. Я снова улегся на канапе и скоро впал в состояние оцепенения, в чем-то близкое сну. Внезапно меня вырвал из него жуткий грохот и звон — в комнату ворвался ветер, распахнувший прогнившие створки окна и разбивший стекла. Ошеломленный толстый генерал, который сидел до этого спиной к окну, вскочил, отбросил стул и встал в боевую позицию. Однако вскоре мы убедились, что никто не собирается на нас нападать, ни волки, ни разбойники, и, как смогли, закрыли окно.
Все это случилось в полночь. Из-за этого интермеццо в соседней комнате проснулся маленький ребенок, хныканье и скулеж которого, сопровождаемые заунывными причитаниями няньки, не прекращались почти весь остаток ночи. Я в третий раз устроился на проклятом канапе и до самого утра оставался в неприятном состоянии между бодрствованием и забытьём, мучимый то увлекательными снами, то действительностью» (203, 42).
На бескрайних российских просторах встречались и такие почтовые станции, которые явно не соответствовали своему названию.
«Где станция?» — спросил я, и указали мне клетушку аршин шести в длину, стол занимает половину пространства, и с трудом можно повернуться» (181, 137).
* * *
Впрочем, и дорожные ухабы, и назойливые насекомые были не так досадны путнику, как вечная нехватка лошадей на почтовых станциях и вызванное этим долгое ожидание. Вот как описывал одну из своих поездок по Малороссии Иван Аксаков.
«…На этом проселочном тракте я был постоянно задерживаем недостатком в лошадях: там окружной, переведенный куда-то далеко и отправляющийся к месту своего назначения со всем своим скарбом и семейством, забрал всех лошадей; там “первосвященный”, ревизуя епархию, также огромным своим поездом заставляет проезжающих сидеть по нескольку часов на станциях; там какая-нибудь большая барыня, поднявшись всем домом, разом захватила все почтовые клячи под свои тяжелые кареты и дополнительные тарантасы… Словом, везде остановка и везде дожидающиеся проезжие! Имея казенную подорожную, я пользовался перед ними тем преимуществом, что забирал и последних лошадей, которых выкормки они столько времени ожидали! Впрочем, если бы я видел в них крайность спешить, я бы, разумеется, уступил им это право» (3, 294).
Долгое ожидание на станции заставляло путников искать хоть какие-то развлечения. Однако интерьер почтовой станции отличался спартанской простотой. «К несчастью, — писал Аксаков из поездки по югу России в 1848 году, — теперь уже везде есть станции или станционные дома для проезжающих, где две-три пустые, худо протопленные комнаты, с известным припасом печатных объявлений почтового начальства, заставляют путешественника торопиться с отъездом. Я проехал более 60 станций и имел терпение выходить решительно на каждой; придешь, осмотришь комнаты, переглядишь все картинки по стенам, толкнешься, будто ненарочно, в кухню или в жилые комнаты смотрителя и редко, редко удастся поймать какое-нибудь живое, замечательное слово или завести любопытный разговор. Уже реже и реже встречаются портреты Багратиона и Бобелины; другие странные сюжеты сменяют их, и преимущественно лица и сцены из Шатобрианова романа “Перуанские Инки”. Встреч посторонних проезжих со мной было мало» (2, 400).
Почти в тех же словах описывает почтовые станции на Русском Севере писатель и путешественник С. В. Максимов (1856).
«Еще одни сутки виделись мне Холмогоры, во всем своем безотрадном разрушении и ветхости, — виделись уже в последний раз. Я поехал в обратный путь на Петербургский тракт. Дорога шла берегом Двины. Попадались людные и относительно богатые селения. Мелькали одна за другой почтовые станции, и они даже начинали напоминать о лучших местах, чем те, которые доставались на мою долю в течение целого года. И от них как-то отвык глаз, и забылась их всегда однообразная, казенная обстановка со смотрителем в почтальонском сюртуке с светлыми пуговицами, с неизбежным записыванием подорожной в толстую книгу, с неизбежной жалобной книгой, припечатанной на снурке огромной печатью к столу. Пошли, по обыкновению, мелькать по сторонам березки и на каждой версте пестрые казенные столбы с цифрой направо, с цифрой налево. И опять неизбежный станционный дом с печатными приказами в черных рамках за стеклом. Один приказ не велит брать лишнее число лошадей против того числа, какое прописано в подорожной; из другого видно, что на такой-то версте мост, на такой-то сухие ямы и овраги, на такой-то гать, которая в ненастное осеннее и весеннее время неудобна для проезда. Все, одним словом, также, как и по всей длине почтовых дорог, искрестивших матушку-Россию вдоль и поперек на бесконечные верстовые цифры. Разница та, что дорога вдет вдоль Двины, но река эта засыпана снегом. Здесь идут два тракта, и петербургский, и московский вместе, до Сийского монастыря, где они разделяются: московский идет на село Емецкое, петербургский — на монастырь и следующую за ним станцию Сийскую» (106, 194).