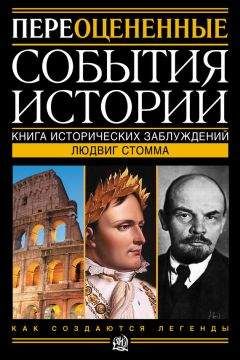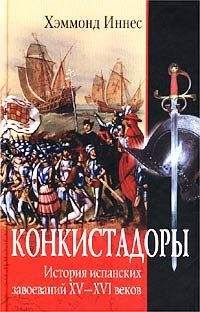Эти «дикие» и никому de facto не подчиняющиеся отряды «в очень малой степени интересовало, за что, собственно, они воюют», – позволим себе повторить мысль Питера Ингланда. Правильно. Но за что же, собственно, воевали все? Если вглядеться в карты военных действий Тридцатилетней войны, голова может пойти кругом от обозначающих движение различных войск разноцветных стрелок, направленных в разные стороны и образующих эффектные завитки. Расположены они на фоне мозаики из нескольких сотен (sic!) королевств, княжеств, графств, свободных городов и церковных владений – то католических, то протестантских. Все вместе производит на зрителя впечатление абсолютного и бесконтрольного хаоса. И такое впечатление, если встать на политическую или стратегическую точку зрения, ошибочным не назовешь. Следует отбросить радикальную логику королей, курфюрстов и полководцев, а также очарованных их мрачной логикой хронистов и историков, чтобы в этом безумии обнаружить некий принцип. Жорж Дюби в своем атласе («Atlas historique», Paris, 1978) помещает карту генеральных демографических потерь, то есть понесенных за весь период Тридцатилетней войны отдельными регионами. Синим цветом обозначены территории, на которых численность населения уменьшилась более чем на 66 %, голубым – на 33–66 %, серым – 15–33 %… Попытаемся за немыми цифрами представить себе человеческие судьбы. Во время Второй мировой войны на Восточном фронте погибло в боях, от голода и геноцида около 15–20 миллионов советских граждан, что составляло до 9 % всего населения. Разумеется, эти потери не были равномерными. В районах особо интенсивных сражений и репрессий (например, Ростовская область или Центральная Украина) они достигали и 25–30 %. Польша оценивает свои демографические потери, включая евреев, в 15–20 %. Здесь же, вытоптанные габсбургскими, датскими, шведскими, французскими и испанскими войсками земли обезлюдели на две трети. Из среднестатистической семьи: родители, трое детей, дедушка или бабушка, в лучшем случае выжили двое. Таково было положение вещей в Пфальце, Вюртемберге, Западной Саксонии, Тюрингии, Мекленбурге и Западной Померании. Считать себя счастливчиками – 15–33 % убыли популяции – могли Чехия, южные регионы Баварии, Ганновер и другие земли брауншвейгско-люнебургского и каленбергского герцогств, окрестности Мюнстера, Фризия… Повторим еще раз, это только общие результаты, баланс трети столетия. Если проанализировать ситуацию по фрагментам, меняющимся из года в год, получится весьма своеобразный военный путеводитель. До 1630 г. Тюрингия и Западная Саксония были еще практически нетронутыми землями, поэтому туда и направились армии обеих сторон. Результат сражения несущественен. Важен тот факт, что снова театром военных действий эти земли стали десять лет спустя, когда понесшее жестокий урон население начало худо-бедно восстанавливаться. Можно, наверное, согласиться с военными историками, что Нердлинген занимал стратегическое положение, позволяя контролировать дороги из Баварии и Швабии в Эльзас и Францию. Потому-то за него так ожесточенно дрались в 1634 г., но следующий раз битва повторилась только в 1645 г., когда страна возродилась настолько, чтобы прокормить войска противоборствующих сторон в течение нескольких недель. Принцип Тридцатилетней войны – это на 90 %, если не целиком и полностью, принцип той самой ингландовской акулы: двигайся туда, где еще можно чем-либо поживиться и кого-нибудь слопать. Все остальное теряется в ничтожности лживых, как всегда, идеологических формулировок, абстрактных расчетов закостенелых штабов и фанатичных воплей католических ксендзов и протестантских пасторов, не имеющих ничего общего с суровой реальностью. Единственным исключением можно назвать, пожалуй, проводимые в конце войны французские операции. Точечные удары армии юного Людовика XIV не отдаляются от собственных баз снабжения и de facto не участвуют в общем безобразии. Французский период Тридцатилетней войны по большому счету – очередной вымысел историков. Опираясь на факты, они могли бы писать исключительно о преступном оппортунизме французов на западной окраине театра военных действий и разорении.
«И если взгляд на конфликт, – замечает Томас Мунк, – меняется в зависимости от исследуемого региона, то большинство историков сходятся на том, что война […] послужила причиной масштабных бедствий, надолго оставшихся в памяти людей и до сих пор так и не понятых жителями Западной Европы. […] Английский дипломат Уильям Краун, путешествуя в 1636 г. по Германии, описал, как он со своими спутниками прибыл “в убогую деревушку под названием Нойенкирхен, где мы наткнулись на горящий дом и не обнаружили ни одной живой души, и там нам пришлось провести ночь, поскольку было уже поздно, и ни одного города в радиусе четырех английских миль, и все время мы в страхе ходили взад и вперед с аркебузами в руках, ибо слышали грохот пушек из ближайшего леса, а на углях превратившегося в головешки дома Его Превосходительство велел пожарить ему мясо, а с наступлением утра отправился осмотреть костел, который предстал нашему взору разграбленным, лишенным икон, с загаженными алтарями, а на церковной земле нашли мы человеческие останки, извлеченные из гроба, а дальше за костелом лежал еще труп, и во многие дома мы входили, и все они были пусты”». Весьма символический итог, но все же незначительный для войны, продолжавшейся тридцать лет. Куда образнее удалось передать тот же смысл Джеймсу Клавеллу в замечательном фильме «The Last Valley». Итак, один из кондотьеров войны в исполнении Майкла Кейна отчасти слуга Габсбургов, отчасти командир отряда, действующего в собственных интересах, отчасти человек, которому просто все надоело, находит в Тироле укрывшуюся в горной долине деревушку, не затронутую пока ужасами насилия и разрушения. Невероятное чудо среди горящей вокруг земли. Кейн со своими людьми решают остаться в деревне, но и здесь их настигает война. Приходится защищать деревню, а отсюда неумолимо следует необходимость снова убивать. В потрясающих своей выразительностью кадрах, навеянных эстетикой живописи Рембрандта, Караваджо и Гойи, австралиец Клавелл талантливо показывает бессмыслицу пылающей Европы. Майкл Кейн больше не увидел своей деревушки в долине, которую в его отсутствие тоже поглотили фанатизм и смерть. Последний неохваченный безумием клочок мира оказался иллюзией. И эту надежду растоптали всадники Апокалипсиса.
Тридцатилетняя война завершилась так называемым Вестфальским мирным трактатом, подписанным 24 октября 1648 г. в Мюнстере. В нем было затронуто много вопросов. Если говорить о территориях, то Франция получила Эльзас, небольшие приобретения на правом берегу Рейна и формальные права на епархии Мец, Туль и Верден. К Швеции отошла Западная Померания со Штеттином, а к Бранденбургу – оставшаяся часть этой провинции. Благодаря подтверждению положений Аугсбургского мира, князья-протестанты (не только лютеране, но и кальвинисты) вернулись к положению до 1624 г. – следовательно, проигравшими остались одни чехи. Император практически получил гарантию, что Габсбурги сохранят корону, а одновременно стал главой конфедерации множества княжеств, сюзерены которых пользовались чуть ли не абсолютной властью в своих независимых владениях, включая внешнюю политику, с весьма расплывчатой оговоркой, что таковая политика не может быть направлена против императора. Единственным ответом на требования уравнять в правах с лютеранами и кальвинистами (последних официально признали «реформированными лютеранами») других протестантов, например анабаптистов, Чешских братьев или унитарианцев, стали уверения в веротерпимости и распространении на них принципа выплаты компенсаций всем, изгнанным из родных мест по религиозным мотивам после 1624 г. Швейцария получила независимость, хотя фактически и так являлась независимой, а следовательно, вестфальский мир не имел для нее особого значения. Упоминались даже такие частные проблемы, как судоходство по Рейну.
«Значение Вестфальского трактата, а тем самым и 1648 г. в истории Европы, – замечает Збигнев Вуйчик («Всеобщая история XVI–XVII веков», Варшава, 1979), – многими историками явно переоценено. Дату эту считали, а иногда и до сих пор считают границей двух эпох, хотя ученых, несогласных с таким мнением, становится все больше.
Мы целиком и полностью разделяем точку зрения именно этих исследователей, поскольку мирный трактат 1648 г. вовсе не означал конца противостояния в Европе […] Не означал примирения или завершения определенного этапа политической истории […] 1648 год не прекратил и религиозных войн. […] И наконец, столь же отрицательный ответ следует дать на вопрос, может ли 1648 г. быть условным началом эпохи абсолютизма.
Приходится, таким образом, констатировать, что мирный трактат 1648 г. стал лишь промежуточным решением, некой внутренней вехой исторических событий, которые означали переход от одной эпохи к другой, но никак не пограничным столбом между ними».