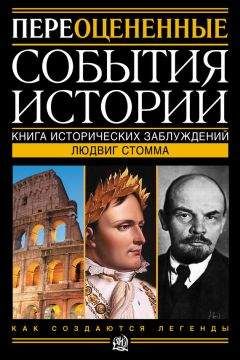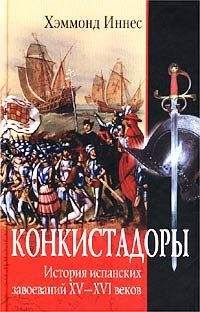«Значение Вестфальского трактата, а тем самым и 1648 г. в истории Европы, – замечает Збигнев Вуйчик («Всеобщая история XVI–XVII веков», Варшава, 1979), – многими историками явно переоценено. Дату эту считали, а иногда и до сих пор считают границей двух эпох, хотя ученых, несогласных с таким мнением, становится все больше.
Мы целиком и полностью разделяем точку зрения именно этих исследователей, поскольку мирный трактат 1648 г. вовсе не означал конца противостояния в Европе […] Не означал примирения или завершения определенного этапа политической истории […] 1648 год не прекратил и религиозных войн. […] И наконец, столь же отрицательный ответ следует дать на вопрос, может ли 1648 г. быть условным началом эпохи абсолютизма.
Приходится, таким образом, констатировать, что мирный трактат 1648 г. стал лишь промежуточным решением, некой внутренней вехой исторических событий, которые означали переход от одной эпохи к другой, но никак не пограничным столбом между ними».
Почему бы не спросить вслед за Томасом Мунком: «Столько человеческих жертв ради столь сомнительной выгоды?» Или не воспользоваться записью потрясенного Казимежа Дзедица («Хроника смерти», Краков, 1995), повторившего, собственно говоря, то, что уже было сказано: «В Германии наступил 1618 год – начало Тридцатилетней войны. Этой войны люди не понимают. В результате ее немцы понесли огромные человеческие потери – 10 000 000 погибших и колоссальный материальный ущерб. Потери эти в процентном отношении в пять раз превышают понесенные в ходе Второй мировой войны и в пятнадцать – потери в Первой мировой. По окончании войны на территории Германии возникло свыше 1700 суверенных стран. В каждой из них были свои законы, таможенные пошлины, подати и единицы мер и весов. Все пребывало в постоянном движении – одни объединялись, другие разделялись. В каждой из стран были свои культурные особенности…»
И честное слово, не так уж существенно, завысил ли Дзедиц число жертв, видит ли Мунк хоть какую-то пользу, а Хельт, наоборот, не видит никакой. Суть заключается в констатации, что люди этой войны не понимали. Хронисты того времени, равно как и их читатели и слушатели, объясняли этот тридцатилетний кошмар происками дьявола, карой за грехи, зловещим заговором… Доставалось за это евреям, ведьмам, иноверцам, всякого рода «чужакам». Самопроизвольно взвинчивался и религиозный аспект событий. Протестанты обвиняли католиков, католики – протестантов, хотя как протестантские, так и католические войска безжалостно истребляли без всякого различия и своих и чужих. Слепая ненависть становилась единственным смыслом, поскольку никакого другого не было. Не видели этого смысла ни убийцы, ни убиенные. И уж нисколько не добавляло смысла хаотическое движение обоих армий, живущих сиюминутными потребностями по тем самым «акульим» законам. Результаты войны тем более не имели особого смысла. Доставшийся шведам в награду за восемнадцать лет сражений и экономическое истощение своей страны Штеттин был ими утрачен всего 65 лет спустя. Военная держава, которой по идее Швеция должна была стать, просуществовала еще меньше – до 1709 г. Иллюзорными оказались выгоды и Франции, и Габсбургов. Логика истории диктовала не закрепление раздробленности в Германии, а ее объединение. В итоге приходится признать, как от этого не открещиваются историки, что война эта велась ради войны. Просто в определенный исторический момент сильным мира сего не хватило воображения ни на что иное.
Парадоксально, но даже разорение земель, по которым прокатилась война, не длилось долго. Жизнь возрождалась здесь, как замечает Мунк, «с поразительной быстротой. В период Пражского мира в Магдебурге осталось всего несколько сотен домов [точнее, около 200. – Л. С.], однако уже десятью годами позже город успешно восстановил былое великолепие. […] В полуразрушенных городах на реке Липпе и на северо-западе обернули выплаты военных контрибуций в свою пользу, стараясь добиться, чтобы суммы выплачивались на местах. В этом случае денежные подати становились фактором, раскручивающим экономику. Даже миграция – очевидная причина человеческих страданий – подчас приносила пользу. Первая волна чешских беженцев, осевших в Пльзене, Дрездене, Циттау и других городах Саксонии, способствовала развитию тамошнего издательского дела и прочих ремесел. Эльзас и северо-западные земли империи, в том числе Ольштын, в итоге также выиграли, поскольку центральные регионы обезлюдели». В свою очередь эти самые центральные регионы отстраивались со скоростью и эффективностью, напоминающими расцвет ФРГ после Второй мировой войны. В конце концов, признает Мунк, «все это было частью более широкомасштабного процесса, начатого еще до войны». Даже в области демографии и экономики последствия Тридцатилетней войны оказались весьма эфемерными. Так за что же погибло много миллионов людей и загублено как минимум одно поколение? Похоже, мы уже предложили ответ, состоящий в отсутствии такового. Война ради войны, то бишь пароксизм человеческого безумия – так должен звучать подзаголовок общего подведения итогов Тридцатилетней войны. По сути дела она ничего не изменила, но в пантеоне преступлений человечества она воистину в первых рядах.
6 апреля 1814 г. в Фонтенбло Наполеон подписал акт отречения от престола. 20 апреля под эскортом шестисот гвардейцев генерала Камбронна он отправился на Эльбу. 8 апреля в замок Хартвелл, где находился Людовик XVIII, брат казненного на гильотине Людовика XVI, ставший наследником престола после прискорбной смерти юного Людовика XVII, влетел на взмыленной лошади маркиз де ля Мезонфор: «Ваше Высочество, Вы – король!» – «Разве я когда-либо переставал им быть?» – с достоинством ответил Людовик. 19 апреля он отправился во Францию, и когда 24 апреля сошел на берег в Кале, карета Наполеона катила где-то между Вьеном и Монтелимаром. Еще в течение пяти дней оба правителя находились одновременно на французской земле, и сразу было ясно, как она разделена. Во «Взлетах и падениях королей Франции» я подвел итоги исследований Мишеля Брюгье («La premiè re Restauration et son budget», Genève, 1969): «Очевидно, что территории, поддерживающие Наполеона, находились приблизительно между двумя прямыми, которые начинаются в Ла-Рошели и направлены одна на северо-восток к Монсу, а вторая к Греноблю и Альпам с небольшим изгибом, охватывающим Овернь. На стороне Бурбонов остались такие традиционно роялистские провинции, как Бретань, Нормандия, Вандея, а также весь юг. Относительно последнего дело можно объяснить континентальной блокадой, разорявшей крупные портовые города вроде Бордо и, в меньшей степени, Марселя. Но почему за Людовика выступали в Дордони, а в соседнем Лимузене, наоборот, за Наполеона? За Наполеона были мужчины, а за Людовика женщины. “Ведь для женщин королевское правление означало, что мужчины, наконец, вернутся к своим ролям братьев, сыновей и мужей, вместо того чтобы пропадать в исключительно мужском мире казарм, сражений и борделей”, – написал Филипп Мансель («Louis XVIII», Paris, 1982). Но и это – только полуправда. Ведь к женщинам относятся и маркитантки, и куртизанки. А что прикажете сказать о тех, чьих братьев, сыновей и мужей Наполеоновская эпоха вознесла на вершины, о которых они раньше и мечтать не смели? Да и мужчины бывают не только военными, но и предпочитающими спокойную жизнь купцами, рантье и крестьянами. […] Реставрация делала акцент на стабильные ценности, такие как семья, легализм, традиция; бонапартизм же ставил на динамические: амбиции, национальную гордость, карьерный рост, борьбу. Бог войны противостоял сентиментальному добродушному пузатому старичку в белых чулках – истинному воплощению сельского пацифизма. По масштабу личности и способностям Людовик XVIII и в подметки не годился Наполеону; но, возможно, именно поэтому был для многих гораздо понятнее и ближе… Кто из нас в морозную погоду не хотел бы иметь такого ждущего в теплом деревенском домике ласкового дедушку? Да, конечно, значительная часть общества опасалась сильных на словах, но вовсе не обязательно на деле радикалов из эмиграции. Но и тех, чьему стабильному положению угрожали безграничные амбиции наполеоновских выскочек, было не намного меньше. Здесь даже семейные узы не гарантировали единства взглядов. Герцог Франсуа Монтескье-Фезенжак был министром внутренних дел при Бурбонах, тогда как граф Элиза-Пьер Монтескье-Фезенжак – обер-камергером Наполеона». И таким примерам несть числа. Столь сложные внутренние переплетения и разграничительные линии изначально исключали гражданскую войну. Можно на худой конец убить соседа, но сына?.. Можно тещу, но приятеля из бистро?..
Не Наполеон сверг монархию Бурбонов, а революция. Он же взял власть в момент, когда коррумпированная Директория окончательно себя скомпрометировала, став компромиссом между якобинцами и вандейцами. За исключением экстремистов он, по большому счету, устраивал всех. Затем Наполеона озарил свет Аустерлица и прочих бесчисленных побед. Он и Франция стали тождественны, чего нам не изменить, как не могли изменить и предпринятые покушения на его жизнь.