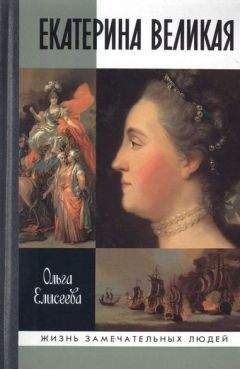В ответ Фридрих писал: «Ваше величество превзошли все мои ожидания… Вы хотите, чтобы я послал Вам проект мира… но я вполне полагаюсь на Вашу дружбу. Располагайте, как хотите, я подпишу все: ваши выгоды – мои выгоды, у меня нет никаких других»240. Король понял характер своего партнера: не требуя ничего и отдавая себя полностью в руки Петра, он играл на благородстве будущего союзника.
Получив такое послание, император рассыпался в самых искренних заверениях: «Я был бы величайшим ничтожеством, если бы, имея союзником благороднейшего государя в Европе, не постарался сделать все на свете, чтобы доказать ему, что он не доверился лжецу… Гольц мне говорил, что ваше величество желали бы… чтобы я Вам обеспечил Силезию и графство Глац и, кроме того, все завоевания, которые Вы можете сделать у Австрии… Я очень этому рад и согласен на все. Но, со своей стороны, я бы желал, чтобы вы соизволили сделать то же относительно датских владений, обеспечив мне Голштинию со всем потерянным мною в Шлезвиге, другую половину датской Голштинии в вознаграждение за столько лет неправого пользования ею… Предположим, что они (датчане. – О. Е.) меня принудят воевать; тогда я просил бы ваше величество… обеспечить мне завоевания, которые я бы сделал в Дании, чтобы мы могли заключить прочный и славный мир для моей Голштинской династии. Я уверен, что вы этому никак не станете противиться, будучи… истинным немецким патриотом»241.
Сначала Фридрих думал, что «дела голштинские так же близки сердцу императора, как дела русские». Однако вскоре он понял, что первые совершенно затмевают вторые, Петр не может соразмерить величины, Россия представляется ему громадным, ненужным и обременительным довеском к милой маленькой родине. Впрочем, нет, ей отводилась роль инструмента, с помощью которого Шлезвиг возвращался в состав герцогства.
При этот император был глубоко убежден, что именно русские подданные станут презирать его, если он не отправится на войну с Данией за родовые владения. «А что бы подумали эти же русские обо мне, – писал он Фридриху 15 мая, – видя, что я остаюсь дома во время войны в родной стране? …Они бы всю жизнь упрекали меня в низкой трусости, от чего, конечно, я бы умер с горести, так как был бы единственным государем моего дома, оставшимся сидеть во время войны, начатой за возвращение неправильно отобранного у его предков»242.
Подобный пассаж наводит на мысль о неадекватном восприятия Петром окружающей реальности. По сведениям более чем доброжелательного Кейта, именно предстоящее нападение на Данию стало катализатором переворота: «Противу сей войны была вся нация, поелику вовлекалась она от сего в новые расходы и новые опасности, ради завоевания герцогства Шлезвигского, каковое почитали здесь совершенно ничтожным и ненужным для России, тем паче, что император уже пожертвовал ради своей приязни к королю Прусскому завоеваниями российской армии, весьма для империи существенными»243.
Английскому дипломату вторил Шумахер: «Из всех причин недовольства самой важной было решение о войне против Дании. В только что закончившейся войне нация потеряла так много людей и истратила столько денег, что новый набор рекрутов уже не прошел бы без ущерба для сельского хозяйства… Нация устала от войн вообще, но с особым отвращением относилась к предстоящей, которую пришлось бы вести при нехватке провианта, магазейнов, крепостей, флота и денег в столь удаленных краях из-за чужих, не касавшихся России интересов против державы, жившей с незапамятных времен в добрососедстве с Россией»244.
По сведениям Шумахера, «министры, генералитет», «военный совет, к которому пригласили канцлера – графа Воронцова» и даже прусский король – все уговаривали императора отказаться от конфликта. В мае Совет передал на высочайшее имя записку, в которой просил отсрочить боевые действия хотя бы до весны следующего года. Ее подписали оба голштинских дяди государя, Миних, Трубецкой, Воронцов, Вильбоа, Волконский, Мельгунов и Волков – то есть правительство в полном составе.
Несмотря на столь ясно выраженное желание подданных, Петр был уверен, будто его станут презирать, не начни он войну. 1 марта появился рескрипт об отношениях с Данией, в котором император потребовал от соседей вернуть Шлезвиг. В тот же день Адмиралтейство получило приказ вооружить весь имеющийся флот для похода245. Кажется, что Петр сам шел навстречу своей гибели. Именно 28 июня, в день переворота, русский посланник в Копенгагене вручил Дании ноту об объявлении войны…
Среди советников молодого государя практически все понимали, что сепаратные переговоры с противником подрывают международный авторитет страны. 29 января Воронцов прямо писал императору: «Генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли»246. Этот авторитет был куплен не умелым руководством и не разумной дипломатией, а кровью и потом армии. Удивительно ли, что именно офицерский корпус почувствовал себя оскорбленным? Кроме того, контрибуция сулила какое-никакое вознаграждение. Но теперь его не предвиделось. Второй после духовенства влиятельный слой общества оказался обижен императором247.
24 апреля с Пруссией был подписан мирный трактат, за которым 8 июня последовал договор о союзе. Секретарь французского посольства Лоран Беранже доносил в Париж о праздновании мира: «Мы видели российского монарха, утопшего в вине и лишившегося употребления ног и языка. С превеликим трудом, как заправский пьяница, бормотал он прусскому посланнику: “Пьем здоровье короля, нашего повелителя. Он сделал мне честь, доверив целый полк; надеюсь, у него не будет повода прогнать меня в отставку. Заверьте его, стоит ему только приказать, и я пойду войной против самого ада со всей моей империей”»248.
Раздражение французов можно понять. Наиболее слабым звеном в антипрусском союзе была Польша, которой покровительствовал Версаль. Сближения Петербурга и Берлина грозило в первую очередь «сарматской анархии». Со скоростью степного пожара страну охватили слухи, будто договор между русскими и пруссаками заключен, чтобы отторгнуть у нее земли и вознаградить ими Россию за возвращенные Фридриху II завоевания249.
Так думали в Париже, Варшаве, Берлине, Вене… Но не в Петербурге. То был подход опытных политиков, в котором за отправную точку принимались интересы Российской империи. О том, что у нового государя своя система отсчета и первой жертвой его альянса с Пруссией должна стать Дания, пока мало кто догадывался. Подчеркивая, как по-разному Петр III и Екатерина II брались за одни и те же дела, Рюльер особо останавливался на сближении с Пруссией: «Доверенность, которую приобрела сия государыня в Европе, и силу в соседственных державах, основала она на союзе с королем прусским, и сей самый союз, предмет и цель ее мужа, возбудил против него справедливое негодование»250.
Есть сведения, что Франция и сама стремилась к сепаратному миру с Пруссией, но измену Петербурга приняла крайне болезненно. Барометром падения веса России на международной арене стал отказ союзников использовать императорский титул по отношению к русскому государю. Этого титула Россия добивалась четверть века, он служил внешним выражением статуса державы. С мая 1762 г. во французских дипломатических документах и в периодической печати, вместо «император» начали писать «царь». Петр с крайним негодованием принял демарш Версаля, но на войне, как на войне. Рычаги давления на брошенных союзников у Петербурга отсутствовали.
Екатерина приводила слова одного из своих сторонников, П.Б. Пассека, о Петре III: «У этого государя нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрег ничем из всего, что могло ему повредить»251. В этом отзыве есть резон, ибо для грядущего переворота император сделал едва ли не больше, чем заговорщики. Он создал политическую ситуацию, а его противники лишь воспользовались ею. Причем среди врагов Петра непримиримых было не так уж и много, основная масса оказалась просто раздражена его поведением.
Такой конец полугодового пребывания у власти тем более странен, что направление реформ было избрано Петром верно. Император дал ход давно назревшим преобразованиям и даже во внешней политике – ахиллесовой пяте его царствования – союз с Пруссией в перспективе сулил много выгод. Но воспользоваться ими сумела Екатерина II, как и плодами других преобразований мужа. Важно отметить последовательность, даже преемственность, их действий. На словах всячески открещиваясь от нелепых предприятий супруга, наша героиня двинулась в ту же сторону, умело обходя препятствия, о которые споткнулся ее предшественник.
Значит, выбора у монархов не было. Они занялись решением насущных проблем, и последние подтолкнули их к близким шагам. В тогдашней русской действительности оказалось важнее не что, а как делать. На одной и той же дороге можно забрести в грязь, а можно благополучно пройти по бровке, не замочив ног. При единстве стратегии разные полководцы используют разную тактику.