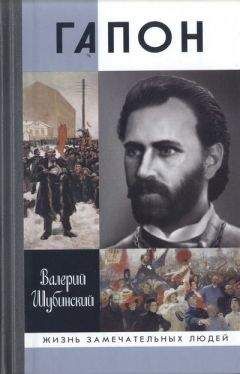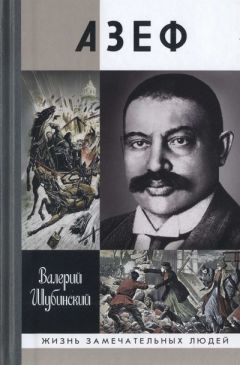Финкель и его сподвижники относились к рабочим примерно так же, как декабристы — к солдатам, которых они вывели на Сенатскую площадь и которые считали, что Конституция — имя жены законного царя Константина. Да, интеллигенты-социалисты искренне желали трудящемуся человеку добра и искренне верили, что только низвержение самодержавия обеспечит социальную гармонию. Так ведь и декабристы желали солдатам добра: их программа включала сокращение срока службы, отмену телесных наказаний. Ради своих идеалов и декабристы, и многие интеллигенты начала XX века не колеблясь шли на каторгу и в ссылку. И — считали себя вправе подвергать опасности других людей, темных, зачастую плохо понимающих, что такое «конституция», «неприкосновенность личности» и «свобода собраний», использовать их, жертвовать их сиюминутными интересами. Во имя их же, этих людей, будущего блага…
Примечательно, что такого рода «декабристский» взгляд на полуграмотную пролетарскую массу присущ был и передовым рабочим вроде Карелиных. А Гапон? Гапон до поры до времени пытался этому противостоять. Но — ненадолго его хватило.
Впрочем, будем справедливы: с конца декабря он оказывается в очень сложной ситуации. С каждым днем — все более сложной.
Сергунин, Субботин, Уколов и Федоров — кто помнит эти фамилии ныне?
Мастер Тетявкин — кому что-то говорит его имя?
А между тем этим малозначительным людям суждено было сыграть огромную историческую роль. Можно сказать, что их столкновение стало поводом к первой русской революции, как похищение Елены Парисом — поводом к Троянской войне.
Конечно, все случайное не случайно. Члены гапоновской организации были убеждены, что мастер не просто так уволил в течение декабря четырех их товарищей-путиловцев. (Или двух уволил, а двум пригрозил увольнением — толковали по-разному.) Ходили слухи о специальных собраниях работодателей, сговаривавшихся о жестких мерах против гапоновцев.
О том, что произошло на самом деле, известно из репортажей Стечькина-Строева в «Русской газете» от 30 декабря 1904-го (12 января 1905-го) и от 3(16) января 1905 года.
Строго говоря, по инициативе мастера Тетявкина уволен был всего один рабочий — Сергунин. Это был старый путиловец, 13 лет прослуживший на заводе, в том числе 11 — в лесообработочной мастерской. Долгое время он был старшим контролером, принимавшим готовую продукцию. Потом работал на строгальном станке, причем работал, по сведениям Строева, хорошо, почти в два раза превышая норму. А по версии дирекции завода Сергунин, напротив, работал на строгальном станке «крайне медленно»[24], был поэтому переведен на ленточную пилу, но и там давал «крайне малый выход колесных косяков» — 120–125 в день при норме 300. За что и был уволен.
С другими рабочими дело обстояло так. Федорова не уволили, но предупредили об увольнении с января. Уколов прогулял полдня, был представлен к увольнению, но тоже еще не уволен. Наконец, с Субботиным всё и вовсе странно: 18 декабря, в субботу, он спросил у старшего рабочего, у которого он состоял в подручных, выходить ли ему на завод в воскресенье. Тот ответил отрицательно. Понедельник Субботин тоже пропустил — по нездоровью. Во вторник 21-го мастер набросился на него за прогул двух дней, грозил увольнением и, между прочим, сказал: «Идите в свое „Собрание“, оно вас поддержит и прокормит». В конце концов он направил рабочего за справкой о болезни к врачу. Тот в справке отказал (хотя в понедельник Субботин обращался к нему за лекарством). Обиженный Субботин совсем перестал ходить на завод, за что и был 30 декабря окончательно уволен.
В общем, зауряднейшие трудовые конфликты. Но почему-то все они происходили в одном цеху и почему-то в них оказались вовлечены именно члены «Собрания»… Похоже, что Гапона дразнили. Может быть, намеренно, а может, и нет. Во всяком случае, проводилась определенная политика: гапоновцам — всякое лыко в строку. Никакого снисхождения. А тем временем, с одной стороны, разворачивало свою деятельность ушаковское «Общество», с другой — Финкель начал свою пропаганду, Карелины, Варнашёв и примкнувший к ним Петров рвались в бой…
Бездействие со стороны Гапона в этой ситуации было опасно: простые рабочие увидели бы, что Гапон не может их защитить, и потянулись бы к Ушакову. А продвинутые леваки бросили бы легальный профсоюз ради революционной борьбы в рядах эсдеков и эсеров.
19 декабря в Нарвском отделе состоялось собрание, посвященное в том числе увольнениям. А на следующий день был сдан Порт-Артур. Отсрочка, которую выхлопотал себе Гапон, заканчивалась.
В двадцатых числах декабря Гапон сам ходил с четырьмя рабочими к фабричному инспектору С. П. Чижову. Разговор закончился ничем. Более того, Чижов пожаловался на Гапона Фуллону. Фуллону, который двумя неделями раньше на открытии Невского отдела остерегал рабочих от забастовок.
Наступили рождественские дни, но даже в праздничной обстановке люди не забывали о путиловских увольнениях. В отделениях проходили детские елки. Дети водили хороводы, получали подарки, а приведшие их родители толковали между собой и с подходившим к ним на минутку Гапоном только об одном: о мастере Тетявкине и его произволе.
Гапон приходил в отчаяние. Он понимал, что попал в ловушку, что над «Собранием» нависла опасность. Поезд шел с ускорением в сторону обрыва. Выскочить из паровоза, с места машиниста было нельзя, тем более — увести с собой десять тысяч пассажиров. Но еще можно было попытаться повернуть состав.
Решено было поручить Иноземцеву — человеку умеренному, аполитичному, беспартийному — выяснить, законно ли уволены рабочие. Иноземцев, разумеется, нашел действия мастера Тетявкина неправомерными. А, собственно, что еще мог он, рабочий вожак, сказать, не роняя своего авторитета?
27-го состоялось собрание руководства «Собрания». На него — впервые! — были в качестве наблюдателей приглашены официальные представители РСДРП. Была и пресса.
Председательствовал Иноземцев. Левое крыло с опасением отнеслось к его кандидатуре — но он единственный знал, в чем суть дела. Карелины и их сторонники настаивали на немедленной всеобщей забастовке и подачи петиции. «Умеренные» сопротивлялись. Александр Карелин, который в последние месяцы терялся в тени своей энергичной жены, взял слово и сказал:
«<…> Зубатовцы оправданы теми забастовками, которые затем приняли политическую окраску; зубатовцы оправдали себя, смыли пятно, лежавшее на них. Нас тоже называют провокаторами, Гапона чуть ли не охранником, мы этой петицией смоем незаслуженное пятно».
Так передавал сам он свои слова 17 лет спустя, и почти так же запомнили их другие.
Гапон боялся оказаться в том положении, в котором полутора годами раньше оказался Шаевич. Он не хотел, чтобы его дело пошло прахом, как дело Зубатова. А его ближайшие сподвижники — они, оказывается, только о том и мечтали. Лекции, кассы взаимопомощи, кооперативы, клубы — все эти вещи, делавшие жизнь рабочего человека чуть более человеческой, всё, создававшееся полтора года общими усилиями, — всё это больше не имело для них никакого значения. А имели значение косые взгляды недавних товарищей-эсдеков. И ради того, чтобы не «ходить по улице с клеймом отщепенца», они собирались с музыкой похоронить свою организацию.
Последнее слово было за Гапоном. Он был в роли Кутузова на совете в Филях. Авторитет его был сопоставим, но соотношение сил было иным. И, помолчав, отец Георгий произнес:
— Хотите сорвать ставку — срывайте!
Гапон — уступил. Он согласился защищать свою «Москву», понимая, что обрекает на гибель армию.
Почему?
Мирное и темное большинство рабочих верило Гапону, верило в Гапона. Эти люди готовы были по его приказу и бастовать, и подавать непонятную им петицию. Они дрогнули бы в одном случае — если бы оказалось, что Гапон не в силах защищать их от несправедливостей. Но как защищать их дальше, Гапон не знал.
А «сознательное» левое меньшинство — оно ушло бы, откололось, не согласись отец Георгий с самоубийственными доводами Карелина. Ушло бы и увело немалую часть распропагандированных отделов — Выборгского, Василеостровского… Петицию все равно подали бы — без Гапона. Вопрос обсуждался. Отец Георгий знал это: было кому ему рассказать.
И с чем бы Гапон остался? С репутацией «охранника» и без поддержки властей? Вероятно, таким образом рассуждал он в то мгновение.
Так поезд миновал последнюю развилку перед обрывом.
Требования с самого начала предполагалось предъявить не только и не столько администрации завода, сколько государству.
Формулировки были удивительны. Первым пунктом предлагалось довести до правительства через градоначальника, что «отношения труда и капитала в России ненормальны, что особенно замечается в той чрезмерной власти, которой пользуется мастер над рабочими». Государственная власть же должна была «попросить» Путиловский завод, частное предприятие, вернуть уволенных рабочих, уволить мастера Тетявкина и «употребить свое влияние, чтобы впредь такие поступки не повторялись». А «если эти законные требования рабочих не будут удовлетворены, союз слагает с себя всякую ответственность в случае нарушения спокойствия в столице». Не на заводе, не у Нарвской заставы — во всей столице!