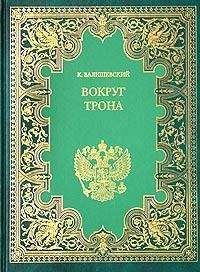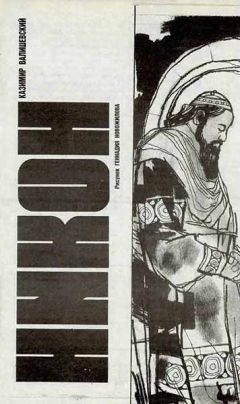Да, может быть «великий человек», как выразился Суворов – воплощавший, пожалуй, в себе еще неразработанные и дикие, беспорядочные и неуравновешенные, но все же гигантские и могущественные материальные и нравственные силы, таявшиеся в огромной империи, и умевший заставить эти силы служить плодотворному гению великой государыни. Никто из окружавших Екатерину, живших около нее и повиновавшихся ее приказаниям, не умел лучше Потемкина понять ее ум и характер, и никто не умел так использовать дремлющие силы многочисленного и могучего народа, повиновавшегося ее законам.
У Екатерины были фавориты, которых она любила сильнее, нежнее или горячее. Но Потемкин не преувеличивал, уверяя однажды свою царственную возлюбленную, что ее никто не любит так, как он. Если он и не думал серьезно идти в монахи из-за нее, то, по крайней мере, сделался ради нее поэтом: поэтом на деле, в этой колоссальной таврической феерии, где он развернул перед глазами императрицы изумительную панораму завоеванного и заселенного им края, и поэтом в стихах. Ему приписывают хорошенькую песенку – вариацию на тему о «червяке, влюбленном в звезду». – «Как скоро я тебя видал, то думал только о тебе. Глаза твои меня пленили, и не решался я тебе сказать, что сердце глубоко скрывало». Даже его проза, когда она предназначалась для императрицы, часто принимала лирический оттенок. Когда после взятия Бендер ему был прислан императрицей лавровый венок из бриллиантов и изумрудов, он отвечал: «Милосерднейшая мать! Ты уже излила на меня все щедроты; а я еще жив! Но будь уверена, августейшая монархиня, что сия жизнь будет тебе жертвою всегда и везде против врагов твоих». И Екатерина в свою очередь – любовь сообщительна по своему существу – находила, отвечая ему, самые удачные и нужные обороты: «Нет ласки, друг мой, которую я бы не хотела сказать тебе», – писала она в письме, сопровождавшем лавровый венок. В то же время она советовала ему не возгордиться чересчур; и когда он несколько обиделся этим, отвечала: «Вот что значит писать на тысячу верст расстояния! Исполненная радостью душа моя только одного выразить желает, чтобы вы избегнули единственной вещи, которая могла бы повредить величию вашей души. Узнайте в этом одно только мое к вам дружество».[39] Письма, писавшиеся в это время императрицей Потемкину, были полны подробностей о квартире, которую она приготовляла и украшала к его приезду. Не забудем, что это был ноябрь 1789 г. и что Екатерина ждала и хотела принять уже не возлюбленного, но друга. Но, обескураженный разочарованиями и неприятностями, который принесла ему кампания, не оправдавшая его честолюбивых надежд, Потемкин принимал с недовольным видом расточаемые ему ласки и опять заговорил о намерении поступить в монастырь. Екатерина пришла в негодование и тот же час ответила его же выспренним тоном: «Монастырь? Что за безумие! Тишина кельи для того, чьим именем полны Европа и Азия? Да это невозможно!»
Иногда в течение этой кампании, представлявшей слишком жестокое испытание для сильной, но мягкой – так сказать железной, но не стальной – души генералиссимуса, в письмах слышится горечь: Потемкин советует другу прекратить свои необдуманные выходки по отношению Швеции, а Екатерина отвечает ему советом взять Очаков, что позволит покончить всякие переговоры и с Швецией, и с Турцией. Но как только сильная крепость пала, согласие восстановилось, и снова начался обмен дружеских и ласковых излияний. «Беру тебя за уши и целую, друг мой», – пишет тогда Екатерина.
И постоянно она беспокоится о его здоровье, настолько же, или даже больше, чем об успехах оружия. Она тоже находит очень милые доводы, чтобы убедить его щадить себя: «Губя себя, вы губите меня». Сделавшаяся у него ногтоеда беспокоила ее гораздо больше, чем появление шведского флота в виду Петербурга.
Все недостатки Потемкина были хорошо известны Екатерине, и она только думала, как бы ослабить или предупредить их последствия. Она заботилась об исправлении уклонений, куда его заводило воображение; старалась, чтобы его непомерное тщеславие не терпело унижений. Зачем дает он своим черноморским кораблям такие громкие имена? Не трудно ли будет их оправдать? Если он заботился о ее удовольствиях и даже о ее любовных похождениях, она отвечала ему тем же. Без сомнения, эта подробность шокирует; а между тем она находит себе место в облике этих двух исключительных существ и в истории необыкновенных отношений, соединявших их в продолжение двадцати лет, – даже тогда, когда уже порвалась более нужная связь, – и помогавшая им управлять судьбами великого государства руками, всегда и вопреки всему, крепко державшимися одна за другую. Мы не станем утверждать, что в этой истории не было многого предосудительного с точки зрения обыкновенной морали; но игравшие в ней роль стояли вне и выше всех законов и всех известных этик; а кроме того, так высоко их положение, если не характер, что они держатся на этой высоте и, желая низвести их на обычный уровень, рискуешь поступиться истиной или, по крайней мере, пожертвовать одной из подробностей, столь же важных для исторической правды. Было что-то благородное в той постоянной чуткости, с которой они всегда отзывались на радости и горести, испытываемый каждым из них, даже не разделяемые, и иногда как бы составляющие оскорбление для их прошлого. Была даже некоторая возвышенность в их равнодушии к мелкой подозрительности и обычным уколам самолюбия, мимо которых они проходили, как бы не будучи задеты ими. А главное, во всех их отношениях видна была чистосердечная, глубокая и возвышенная дружба. Если все это так, и если их значение один для другого таково – то все это от того, что они любили друг друга, как редко кто, и что им, кажется, суждено было испытать на себе все формы человеческой страсти и чувства.
Сен-Жан, самый недоброжелательный из биографов фаворита и неблагодарный из его секретарей, рассказывает о списке, в который князь на основании сведений, сообщаемых многочисленными клевретами, вносил фамилия молодых офицеров, обладавших, по-видимому, качествами, необходимыми, чтобы занять положение, которое он сам занимал в продолжение двух лет. Затем он заказывал портреты кандидатов и под видом продающихся картин предлагал на выбор императрице. Это возможно. Тот же автор сообщает, будто князь однажды ночью посягал на добродетель одной из фрейлин, дежуривших во дворце, и преследовал ее даже до комнаты, соседней со спальной императрицы. Последняя же, разбуженная криками красавицы, побранила ее, что она потревожила ее сон из-за такого пустяка. Анекдот маловероятен.[40] Но вот собственноручная записка Екатерины к своему бывшему возлюбленному во время его пребывания в Украйне в конце 1788 г.
«Послушайте, голубчик, Варенька очень больна; если тому виноват ваш отъезд, напрасно: вы ее убьете, а я начинаю очень любить ее!»
Варенька – это Варвара Энгельгардт, одна из племянниц Потемкина. Их было пять сестер: Александра, Варвара, Надежда, Екатерина и Татьяна, все фрейлины императрицы, а мать их, родная сестра князя, была назначена статс-дамой. Все племянницы были хорошенькие, и дяденька ухаживал за ними по очереди. Еще раз: подходя к этому человеку и к тому, что близко касается его, приходится забыть о морали. Он сам был, по-видимому, сыном двуженца. Его отец уже женатым влюбился в молоденькую, хорошенькую вдову, Дарью Скуратову, выдал себя за холостого и женился на ней. Узнав истину, Дарья добилась свидания со своей соперницей и уговорила ее поступить в монастырь. Презрение правил, склонность к преступлению по страсти, кажутся наследственными в этой семье; а, с другой стороны, Потемкин, в остальном такой равнодушный, является в этом отношении утонченным, любопытным и виртуозом. Он не великий полководец и не великий государственный человек, но, без всякого сомнения, великий адепт любви.
VI
По-видимому, Варвара была первой из сестер, пользовавшейся расположением Потемкина. В 1777 г., лежа в постели и больной, он ждал минуты, когда удалится императрица, чтоб написать племяннице записку, которою передавал через Сёммерса, камердинера Екатерины. (Последний не обманывал императрицу, потому что Потемкин в это время числился фаворитом только по имени). Вот образчики таких записок: [41] «Варенька, если люблю тебя бесконечно, если душа моя только и живет тобой, ценишь ли ты это, по крайней мере? Могу ли я, по крайней мере, верить тебе, когда ты обещала любить меня вечно. Люблю тебя, душа моя, до бесконечности; я люблю тебя, как никого не любил... Не удивляйся, что видишь меня иногда печальным: бывают невольные движения души; я сам знаю, что у меня к тому нет причины, но я не могу приказывать себе. Прощай, мое божество. Целую тебя, всю».
«Мне легче, милый друг, и хотелось бы, чтоб ты лучше переносила мое отсутствие, чем я твое, и чтоб твоя мысль перелетала ко мне, как моя, которая всегда за тобой следует. Александр Васильевич лучше, но я, друг мой, печален и не могу быть иначе вдали от тебя. Ангел мой, Варенька, кто мог бы любить тебя так? Друг мой, дорогие мои губки, матушка, сокровище!.. Завтра пойду в баню!.. Варенька, моя жизнь, красота, божество, скажи, что любишь меня, и этого будет достаточно, чтоб вернуть мне здоровье и веселость счастье, и мир. Душа моя, я полон тобой, да, весь полон, моя красота! Прощай, целую тебя всю»...