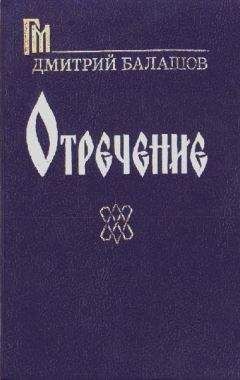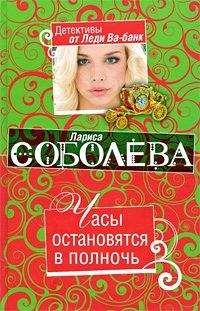Ближе к ночи прошли в думную палату, расселись по лавкам. Спорили. Дмитрий упирал на лествичное право, на то, что он старейший Бориса и стол Андреев должен по праву перейти ему. Сейчас уже не имело значения, прав был старший брат или нет. В конце концов ярлыки на княженья давала Орда, и ни великий князь, ни митрополит не имели в том части.
Ночью Бориса подняли с постели. Накинув домашний зипун на плечи, щурясь от плещущего света факелов, он вышел к черному крыльцу теремов. Измученный гонец протягивал ордынскую грамоту.
– Едут! – проговорил. – Меня наперед послали!
Борис сгреб за плечи и расцеловал ратника.
Посол Барамходжа от болгарского царя и царицы Асан, привезший Борису ярлык на Нижний Новгород, прибыл еще через день, к вечеру.
Третьи сутки не стихали споры бояр и князей. Третий день святые отцы предлагали перенести прю на суд владыки Алексия, в Москву.
В это утро, принявши татарина со свитою и задав ордынскому гостю на радостях пир, Борис прямо на стол перед лицом Дмитрия швырнул татарский фирман, прекращая все дальнейшие переговоры с братом:
– Мой Нижний!
Суздальские бояре недовольно и опасливо оглядывали татарина в дорогом халате и в перстнях на корявых пальцах, читали ярлык, понимая с горем, что Борис первый након выиграл, а на второй надобно перенести споры в Орду.
Вечером того же дня у Бориса состоялась толковня с епископом.
– Я обещал покойному брату твоему старейшему, – с сокрушением говорил владыка Олексей, – поддержать того из вас, кто будет правее. Теперь вижу, что надобно поддержать тебя, сыне! Но повиждь и помысли: не достоит ли все же обратить слух к глаголам набольшего духовного судии? Суд князем на Руси должен вершить митрополит Алексий! Понеже брат твой старейший покидает город… Там будет паки рассмотрен и ярлык, добытый тобою!
Борис выслушал епископа, отемнев лицом.
– Не еду! – отверг решительно и гневно. – Князь я аль нет?!
– Переже всего, сыне, ты христианин еси и как всякий верный подлежишь суду духовного главы, митрополита всея Руси, кир Алексия!
– Не еду! Не еду! Нет моей воли на то!
– Помысли, сыне! Духовная власть…
– Можешь ты, ты, отче, повестить владыке Алексию про ярлык, полученный мною? – прервал яростно своего епископа Борис. – Ради памяти Андрея хотя бы, как ты и сам говоришь!
Епископ пожал плечами, вздохнул, понурился, вымолвил:
– Попробую, сыне!
(Он не ведал еще, что этим своим «попробую» уже терял епископскую власть над Нижним Новгородом и Городцом, ибо Алексий, не терпя препон от ставленников своих, отторг вскоре от суздальской епископии эти два города, подчинив их своей владычной власти).
Назавтра суздальцы собирались домой. Мать уезжала вместе со старшим сыном, не простивши Борису нанесенной ей обиды. Торочили коней. Выезжали со двора бояре и слуги. Почетная стража стояла рядами от крыльца до ворот. Столкнувшись в сенях, Борис с Дмитрием затрудненно едва кивнули друг другу.
Мать на отъезде не сдержала гнева. Заматывая дорожный плат (у нее, как всегда, когда гневала, дрожали руки), говорила, не глядя на младшего своего:
– Обидел! Оскорбил! До смерти помнить теперь! Нянчила!
– Тебя, мать, не гоню! – хмуро отмолвил Борис.
– Нет уж! Ноги моей больше здесь не будет! – возразила Олена и пошла, большая, сердитая, еще более полная и плотная в дорожном вотоле своем.
Борис про себя тихо радовался материну гневу. Так бывало и в детстве: ежели накричит, разбранит, значит – уже согласилась с чем, а там и отойдет, а там и примет! Не скажет сама никоторого слова, а словно бы позабудет. Вздохнул, подумал: «Усижу год-другой – и мать примет как неизбежное!»
Не ведал еще Борис, что и единого лета не дадут ему высидеть на нижегородском столе.
Проходил июнь. Стояла сушь. Воздух курился, словно бы пропитанный дымом, там и тут возгорались пересохшие моховые болота, и небо гляделось белесым и мглистым сквозь чад.
Уговаривать князя Дмитрия Константиныча послан был из Москвы Тимофей Василич Вельяминов. Поручение было важное, и он мог надеяться в случае успеха получить чин окольничего, который ему, собственно, и был обещан Алексием. С собою Тимофей Василич взял юного сына Семена и взрослых племянников – Ивана с Микулою, детей тысяцкого.
Иван поскакал наперед и должен был сожидать посольства во Владимире.
Микула, получив разрешение отца, радостный, отправился в дядин терем, где ему всегда нравилось бывать, слушать ученую молвь, погружаться в мир высокой духовности, трогать дорогие греческие и латинские книги, прочесть которые ему, по незнанию языков, не было дано.
Он ехал верхом, озирая развалы камня и копошащихся мастеров, вдыхая легкий боровой дух из заречья и радостно слушая погребальные московские звоны. Бывает такое в молодости, когда хорошо, весело ото всего, и даже смерть не печалит и не страшит, столько в себе самом чуешь силы и радости бытия. Микула к тому не был еще женат (в чем виною тоже был мор, унесший в одночасье суженую ему невесту), и молодость бродила в нем, точно хмель.
У дяди его тотчас окурили дымом какой-то особой ядовитости, заставили снять сапоги и вымыли пахучим составом каблуки и подошвы. Вышел Кузьма, дядин казначей (оставшись сиротою с прежнего мора, он так и возрастал в дядином тереме), невысокий, островатый лицом и взором скорее аскет, чем муж брани, поглядел строго своими большими, настойчивыми, в покрасневших от частого чтения и свечного пламени веках глазами, сказал, чтобы и холщовую летнюю ферязь Микулы приняли и унесли, пригласил затем так же строго, без самомалейшей улыбки, в верхние горницы.
Дядя Тимофей, бело-румяный, крепкий, весело расцеловал племянника, вопросил, шуткуя:
– Не уморишь нас с Кузьмой?
Казначей недовольно повел бровью. Дядя расхохотался, спросил:
– Не видал ищо нашей поварни-то? Поди поглянь, поглянь! Тем часом на стол соберут!
Спустились по лестнице, прошли вторым двором в приземистую запасную поварню, из-под кровли которой густо и вонюче дымило. Внутри было нечто, напомнившее Микуле не то логово сатаны, не то ведьмино урочище. Рядами стояли разноличные горшки и сосуды с каким-то варевом, свисали с потолка пучки трав и зелий, а в обширной печи варилось что-то непредставимое, и дух был такой, что шибало с ног.
Кузьма деловито прошал о чем-то двух своих помощников, суетившихся у печи, попробовал, чуть скривясь, какую-то смесь из горшка. В поварне было темно и сумрачно. Вот из-за печи вышел некто черный, в спутанных волосах (и Микула чуть было не выговорил: «Чур меня, чур!»). Вопросил что-то у Кузьмы на неведомом языке, словно бы даже и не греческом, бегло, без интереса глянув на молодого, в палевого шелку рубахе, в зеленых набойчатых портах и тимовых сапогах с загнутыми носами боярина. Кузьма ответил черному мужику на том же халдейском языке, покачал головою. Пояснил Микуле:
– Любую болесть можно остановить! Да черная времени не дает! Кабы неделю, две, а то два-три дня – и конец! Бьемси, бьемси тута, а все толку нет! Уж Господней кары, видать, человечьим умением не отворотишь! – Он широко осенил себя крестным знамением, и Микула тут только узрел в углу невидную икону с ликом Николая-угодника. – По Галенову и Иппократову учению творим! – с оттенком гордости произнес Кузьма. – И остановили б, да крысы вот…
На недоуменный взгляд Микулы пояснил:
– Крысы! Кабы их истребить, дак и черная окончилась бы той поры.
– Крысы-то при чем?! – удивился Микула.
– Дак грызут снедное, ну и болесть переносят на себе! Все связано, все в тварном мире одно с другим съединено! – поучительно, с бледною усмешкой к простоте собеседника изрек Кузьма. – Без пчелы, без шмеля, смотри, нету и урожая! Птица певчая хранит сады от червя; всякое былие малое и то на потребу человеком. Всяк зверь для своей надобности служит. И скимен-лев, и хищный волк, и медведь, и инрог, что в жарких странах обитает… Богом создано! Превышним разумом! Стало, чего и не понимаем враз по невежеству своему, и то всяко полезно и надобно в мире сем.
Вышли снова на свет. У Микулы с непривычки даже голову закружило и слезы выжало из глаз.
– Ищем, чем черную остановить! – сказывал Кузьма, вздыхая, когда они шли назад через двор. – Мыслю, однако, не все возможно человеку, в ином положен предел жестокий, и тут бейся не бейся… А иного не измыслишь, кроме как – молитва и пост! Мнихов, поглянь, все же меньше мрет, нежели мирян.
Микула подымался вслед за Кузьмою по лестнице, все еще ощущая запахи адского варева, верно, приставшие к платью и волосам, так и не понимая до конца, был ли тот, черный, целителем из иной земли, колдуном ли, али самим нечистым, коего Кузьма, связав молитвою, обязал работати на христиан. С удовольствием принял предложение Кузьмы омыть еще раз руки, лицо и бороду. Только тогда мерзкий запах несколько отошел от него. В доме родительском тоже собирали травы и зелья варили, но такого он у родителя-батюшки не видывал никогда.