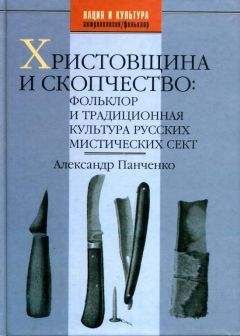Ознакомительная версия.
И этот пацифизм, и упомянутая «стратегия избегания» в общем-то вполне объяснимы. Речь идет об аграрном сообществе, где, как уже было сказано, персональная и коллективная идентичность формируется на основе принципа локальности и где война воспринимается как чуждая, мало понятная и вредоносная деятельность хотя и противоборствующих, но в равной степени враждебных крестьянину сил. Сложнее объяснить столь заметную роль мотива доноса и предательства, широко представленного в наших записях. Впрочем, как мне представляется, он тоже поддается толкованию. Напомню, что, согласно известной теории «ограниченного блага» (limited good), высказанной в 1960-х годах американским антропологом Джорджем Фостером, аграрные культуры воспринимают любые блага и ценности (экономические, социальные, культурные) как замкнутую систему – своего рода ограниченный ресурс. Поэтому любой дисбаланс в дистрибуции блага воспринимается членами крестьянской общины как процветание одних за счет других, как ситуация, требующая перераспределения ценностей (см.: Foster 1965).
Одним из средств репрезентации и актуализации этого принципа в русской деревне были, как я думаю, поверья о вредоносном колдовстве (порче) и о сглазе[138]. Лишившись привычного предметного обихода и, следовательно, большей части материальных ценностей, менюшские крестьяне сохранили в своих лесных «окопах» социальную структуру, основанную на принципе «ограниченного блага» и подразумевающую, что один всегда процветает за счет других. Однако привычные для них нарративы о колдунье-«зажинщице», похищающей зерно с поля, или о «тетке с черным глазом», «опризорившей» корову либо новорожденного, в новой ситуации уже не работали: здесь не было ни колосящихся полей, ни коров, ни новорожденных. Полагаю, что место подобных историй и заступили разговоры об односельчанах, «доказывающих» друг на друга: предательство в данном случае оказывается символическим эквивалентом порчи. Показательно, что в записанных нами рассказах о высылке на принудительные работы, а также о жизни в Латвии и Германии мотив предательства полностью исчезает, поскольку в мире остарбайтеров разрушается не только привычный материальный обиход, но и сама структура крестьянской общины. Надо заметить, кроме того, что нарративы о жизни в «чужих землях» в нашем случае вообще оказываются менее драматичными и не слишком детализированными.
Литература
Бахтин 1994 / Бахтин В. С. Песни фашистского плена // Фольклор и культурная среда ГУЛАГа / Сост. В. С. Бахтин, Б. Н. Путилов. СПб., 1994. С. 124–137.
Вязинин 1995 / Вязинин И. «Помним вас…» // Книга Памяти: Шимский район. Новгород, 1995. С. 6–27.
Джекобсон 1998 / Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917–1939). М., 1998.
Жигулин 1989 / Жигулин А. В. Черные камни. М., 1989.
Книга Памяти 1993–1999 / Книга Памяти жертв политических репрессий Новгородской области. Новгород, 1993–1999. Т. 1–9.
Новгородская земля в эпоху социальных потрясений 2008 / Новгородская земля в эпоху социальных потрясений,1941–1945: Сборник документов. СПб., 2008. Кн. 3.
Новгородские партизаны 2001 / Новгородские партизаны: Партизанское движение на Новгородской земле в 1941–1944 гг.: Сборник документов и воспоминаний. Новгород, 2001.
Панченко 2012 / Панченко А. А. Иван и Яков – необычные святые из болотистой местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. М., 2012.
Песни узников 1995 / Песни узников / Сост. В. Пентюхов. Красноярск, 1995.
Преодоление рабства 1998 / Преодоление рабства: Фольклор и язык остарбайтеров / Сост. и текстология Б. Е. Чистовой и К. В. Чистова. М., 1998.
Христофорова 2010 / Христофорова О. Б. Колдуны и жертвы: Антропология колдовства в современной России. М., 2010.
Dolby 1989 / Dolby S. Literary Folkloristics and the Personal Narrative. Bloomington; Indianapolis, 1989.
Foster 1965 / Foster G. M. Peasant Society and the Image of Limited Good // American Anthropologist. 1965. Vol. 67. № 2. P. 293–315.
Moon 1996 / Moon D. Peasants into Russian Citizens: A Comparative Perspective // Revolutionary Russia. 1996. Vol. 9. № 1. P. 43–81.
Thompson 1994 / Thompson P. Believe It or not: Rethinking the Historical Interpretation of Memory // Memory and History: Essays on Recalling and Interpreting Experience / Ed. by J. Jeffrey, G. Edwall. Lanham, Maryland, 1994. P. 1–16.
Константин Богданов
Чудак, чувак и чукча. Историко-филологический комментарий к одному анекдоту
В подавляющем количестве анекдоты о чукчах, как известно, варьируют одну тему – придурковатое простодушие северных аборигенов и непонимание ими элементарных для цивилизованного человека вещей. Анекдотов такого типа в мировом фольклоре очень много. Французы рассказывают анекдоты о бельгийцах, испанцы – о португальцах, финны – о шведах, американцы – о поляках, мексиканцы – о жителях полуострова Юкатан, южные немцы – о немцах-северянах, ирландцы – об обывателях побережья Керри, и т. д. (Davies 1990). Есть такие анекдоты и в традиционном русском фольклоре, например, анекдоты о соседях-глупцах, которые никак не могут по недомыслию досчитаться одного человека, так как считающий все время самого себя не считает (ATU 1287; см. по этому поводу, например: Айрапетян 2010). Жители одной Заонежской деревни даже получили соответствующее прозвище – «девятые люди». Это десять человек, которые все время считают друг друга, но насчитывают только девять человек (Куликовский 1898: 18).
При этом очевидность сюжетного сходства анекдотических рассказов о глупости соседей или инородцев предсказуемо позволяет предполагать, что происхождение, причины и функции такого рассказывания в мировом фольклоре в общем и целом одинаковы, а их этническая специфика вторична. Несколько лет назад это мнение на сайте grani.ru в эссе под названием «При чем здесь чукча?» не без нажима повторил Лев Рубинштейн. Лев Рубинштейн высказал убеждение в том, что суть анекдотического жанра состоит не в желании унизить и оскорбить кого-либо, а в стремлении к языковой игре, неожиданной речевой ситуации, в удовольствии от метко сказанного слова. В качестве иллюстрации такой игры сам Рубинштейн привел забавные «чеченские» имена, придуманные им вместе со своими друзьями из одного московского журнала и благодаря Интернету ставшие со временем вполне фольклорными: Букет Левкоев, Рулон Обоев, Ушат Помоев, Камаз Отходов, Рекорд Надоев, Билет Догаваев, Парад Уродов[139]. В том же ряду Лев Рубинштейн нашел и некого выдуманного эстонца по имени Порносайт из поселка Трахнувыдру. Упор в этом списке был сделан на то, что хороший анекдот хорош сказанным словом, а вовсе не сюжетом (Рубинштейн 2005).
С филологической точки зрения, Рубинштейн в определенном смысле прав, потому что анекдот как жанр зачастую действительно абсолютно безразличен к фигурирующим в нем персонажам. И мировой фольклор действительно знает очень много совершенно однотипных анекдотов, которые рассказываются о носителях разных национальностей и разных культур. Анекдоты о тех же чукчах в целом ряде случаев повторяют сюжеты и языковые шутки, которые обыгрываются в анекдотах о героях совсем других культур, не имеющих отношения к северу. Поэтому же немалое количество фольклористических исследований об анекдотах посвящено именно типологизации сходств: вроде бы герои разные, а шутки все одинаковые. Но вот вопрос: насколько внимание к языковым основаниям анекдотического жанра исчерпывает его пусть даже и собственно филологическое объяснение? Дискуссия, которая развернулась на сайте stengazeta.net после публикации эссе Рубинштейна, может служить ярким примером того, что одной филологии для объяснения анекдотов мало. Благодушие Рубинштейна, поставившего знак равенства между всеми анекдотами о чудаках-соседях, не только не убедило читателей в том, что такое равенство существует, но и породило здесь же разноголосую волну взаимных националистических оскорблений, рассуждений о чеченской войне, заговоре евреев, подлости русских и т. д. При этом больше всего, конечно, досталось самому автору статьи – еврею Рубинштейну, чье эссе, вопреки своему названию, очень хорошо продемонстрировало, что чукча здесь очень даже причем.
Важно подчеркнуть, что как рассказывание анекдотов, так и исследования анекдотического жанра психологически не беспроблемны. Я далек от мысли думать, что восприятие любых текстов, обыгрывающих особенности национального характера, предрасполагает к эмоциям, чей социальный и психологический эффект всегда травматичен. Но ясно, что анекдоты о евреях воспринимаются иначе, будучи рассказанными, например, в фундаментальных исламистских и космополитических сообществах. Этические и в конечном счете идеологические последствия такого рассказывания опять же осложняют и само его изучение.
Исследователю, рассуждающему о словах и текстах, которые могут восприниматься как оскорбляющие национальное достоинство, вольно или невольно приходится считаться с тем, что филологическая наука чревата не филологическими страстями и разного рода ограничениями. В отечественной филологии ярким примером такого рода ограничений может служить эдиционная история всем известного словаря Даля, из которого советские цензоры во имя специфически декларируемой борьбы с антисемитизмом выкинули все слова и все словарные примеры на слово «жид». Во втором, фототипическом, переиздании словаря Даля (1955-го и последующих годов издания) для этого даже пришлось разрезать на мелкие полоски и заново переклеить 541-ю страницу первого тома, вдвое увеличив ее межстрочный интервал.
Ознакомительная версия.