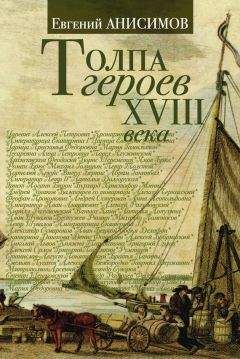Владимирский и Царскосельский (Московский) проспекты, Сенатская площадь и многие другие площади и улицы сошли с чертежей Еропкина и воплотились в камень мостовых и домов блистательного Петербурга. Строгий и стройный вид городу придавали его регулярные улицы и набережные. Для приплывающего из Кронштадта иностранца город разворачивался чудесной панорамой. «По обеим сторонам Невы, – вспоминает датчанин П. Хафен, – стояли отличные дома, все каменные в четыре этажа, построенные на один манер и выкрашенные желтой и белой краской». Потом путешественник поражался удивительной гладкости мостовых, чистоте и порядку на улицах столицы.
Царицу можно было часто видеть на улицах города, особенно зимой. Гулянье на санях по Невской першпективе особенно нравилось Анне Иоанновне, а легкий морозец и быстрая езда улучшали самочувствие и аппетит. Летом же город пустел – двор выезжал в Петергоф, зато особенно оживленной была Нева – ее заполняли сотни судов и суденышек. Сверху, с Ладоги, везли в столицу бесчисленные товары – богатство России, а с запада в Неву входили суда разных стран, чтобы пристать к причалам торгового порта на Стрелке Васильевского острова.
Здесь неподалеку, в треугольнике между Стрелкой, Петропавловской крепостью и Зимним дворцом, устраивались зимой на льду Невы молебны у проруби в день Водосвятия, парады армии, фейерверки. Столица пышно отмечала утвержденные законом календарные празднества, и небо над городом, и так часто озаряемое северным сиянием, блистало от фейерверочных огней. Особую забаву составляло кормление народа за казенный счет. Как писал Эрнст Миних, «народ по данному сигналу бросился на выставленного на площади жареного быка и другие съестные припасы, равно как и на вино, и на водку, которые фонтаном били в нарочно сделанные большие бассейны». С высокого балкона на народное веселье, огненное великолепие в небе, на весь этот город благосклонно смотрела высокая, тучная женщина в роскошной царской шубе. Ее жизнь была уже навсегда связана с этим городом, с этими берегами.
Академия наук была украшением Петербурга. В принципе самой Анне Иоанновне наука была не нужна. Она отлично обошлась бы и без Академии наук, или, как тогда ее называли, Академии де сианс. Но Академию завел Петр Великий, ее существование прибавляло престижа монархии, наконец, от ученых тоже бывала польза: они могли наладить лесопильную мельницу на верфи, составить новую ландкарту России, найти полезные ископаемые или «сочинить» фейерверк. Вот, например, академик Жозеф Никола Делиль, или, по-русски, – Осип Николаевич. От него была очень большая польза – недаром астронома известнее в Европе тогда не было. Он регулярно доставлял во дворец «невтонианскую трубу длиною 7 футов» и другие инструменты, и императрица самолично наблюдала кольца на Сатурне и «объявила о сем всемилостивейшее удовольствие». Делилю принадлежит идея знаменитого полуденного сигнала пушки: по точнейшим астрономическим часам он отмечал полдень, давал сигнал из башни Кунсткамеры – и с бастиона крепости палила пушка. Так и стреляет она ровно в полдень по сей день.
С огромным удовольствием Анна Иоанновна посещала Кунсткамеру, дивясь хитроумным станкам личного токаря Петра – Андрея Нартова, рассматривала восковую персону своего грозного «батюшки-дядюшки». Крутилась для нее и сфера гигантского Готторпского глобуса. Удивлялась она и коллекциям сибирской экспедиции академика Г. Д. Мессершмидта, который целых десять лет путешествовал по Сибири (заметим – добровольно!) и собрал уникальные экспонаты. Вероятно, показывали Анне Иоанновне и типографию академии, где стали выходить первые отечественные научные журналы и газета – «Санкт-Петербургские ведомости».
Но для Анны Иоанновны, как и для многих ее современников, наука имела преимущественно прикладное и развлекательное значение, на ученых смотрели как на чиновников специфического ведомства. Сама императрица вряд ли разделила бы гелиоцентрическую концепцию мироздания Коперника, если бы она, конечно, смогла ее понять. Наука наукой, кольца Сатурна – одно, а по поводу пойманной волшебницы бабы Агафьи Дмитриевой подписала указ: собрать комиссию и учинить ей «пробу» – сможет ли она, как говорили, обернуться козой или собакой.
Между тем в академии работали незаурядные, талантливейшие ученые. За знаменитым круглым столом академического собрания рядом с гениальным математиком Леонардом Эйлером сиживал Герард Фридрих Миллер. Всю свою жизнь он собирал и изучал материалы по истории России, и без его коллекции – знаменитых «Портфелей Миллера» – была бы бедна наша наука. В России ученым открывался простор для выбора научных занятий и тем, перед ними лежала практически не исследованная земля – ни точных карт, ни гербариев, ни необходимых коллекций, ни даже приблизительных знаний о ее истории, географии, этнографии, природных богатствах. Гениальный математик Леонард Эйлер был искренен, когда писал впоследствии, что он благодарен счастливому случаю, который его, студента-физиолога, занес в Россию. Иначе в Европе, продолжал ученый, «я бы вынужден был заниматься другой наукой, в которой, судя по всем признакам, мне предстояло бы стать лишь кропателем». И так думали многие академики, основав новые школы, сделав выдающиеся открытия.
Среди интереснейших людей аннинского времени выделялся Василий Никитич Татищев. Его шестидесятипятилетняя жизнь была переполнена событиями и происшествиями, которых вполне бы хватило на двух-трех человек. Участник взятия Нарвы и Полтавского сражения, он затем выполнял различные поручения Петра I и его преемников: строил заводы на Урале, ездил в Швецию за опытом промышленного строительства, ведал монетным делом в России, сооружал крепости на юго-востоке, подавлял восстание башкир, был губернатором в Астрахани, вел дипломатические переговоры и т. д. «Этот старик, – писал о нем английский путешественник Ганвей, – замечателен своей сократическою наружностью, изможденным телом, которое он старался поддерживать многолетним воздержанием, и, наконец, неутомимостью и разнообразием своих занятий».
Истинная правда! У Василия Никитича был на редкость пытливый ум исследователя высокого класса. Он был поразительно плодовит как прожектер, почти непрерывно сочинял проекты по самым разным предметам, начиная с организации подушной ревизии и кончая проектом сочинения истории России. Историей он увлекся уже в зрелом возрасте и стал собирать материалы по истории и географии России. Это было увлечение, которое прославило Василия Никитича как первого историка, отца российской истории. Даже непонятно, как он, постоянно загруженный тяжелой и ответственной казенной работой, успевал глубоко и серьезно изучать найденные им летописи и хронографы, вести обширную научную переписку.
Историк С. М. Соловьев сказал о Татищеве главное – он «указал путь и дал средства соотечественникам заниматься русской историей». Человек ясного, практического ума, он интуитивно вышел на то, что составляет сердцевину современного исторического исследования, – на критику исторических источников, постижение скрытого смысла текста исторического памятника, сопоставление и анализ фактов и трактовок одних и тех же событий разными источниками.
Василий Никитич был сложным, противоречивым человеком. Сторонник просвещения, он стал одним из первых наших этнографов, занося на бумагу сведения о традициях и обычаях народов, с которыми сталкивала его судьба администратора. Но изучая историю России, переполненную пролитой кровью и страданиями, он сам множил эту кровь и страдания – был жестоким гонителем старообрядцев, карателем башкирского восстания, сам участвовал в пытках и допросах «инородцев», а его проект физического уничтожения башкирской молодежи принадлежит к числу вполне людоедских сочинений.
Как и многие современные ему администраторы, Татищев постоянно находился под следствием за злоупотребления и по подозрению в казнокрадстве, да и сам не чурался писать доносы на своих коллег. Строгий моралист, он тяжело уживался с людьми, был несчастлив в семейной жизни и только среди книг и рукописей, любовно собранных им, чувствовал себя по-настоящему уютно и свободно.
«Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия: весьма знающ в латинском, французском, итальянскомивсвоем природном языке, также в философии, богословии, красноречииивдругих науках». Такую блестящую оценку дал Василию Кирилловичу Тредиаковскому Н. И. Новиков – просветитель екатерининских времен. Но многие думали о Тредиаковском иначе, насмешливо называя его схоластическим педантом, бездарным графоманом, чья «бесплодная ученость» порождала лишь «варварские вирши». Отчасти это так – как пушкинский Сальери, Тредиаковский пытался разъять гармонию поэзии и найти ее волшебную формулу.