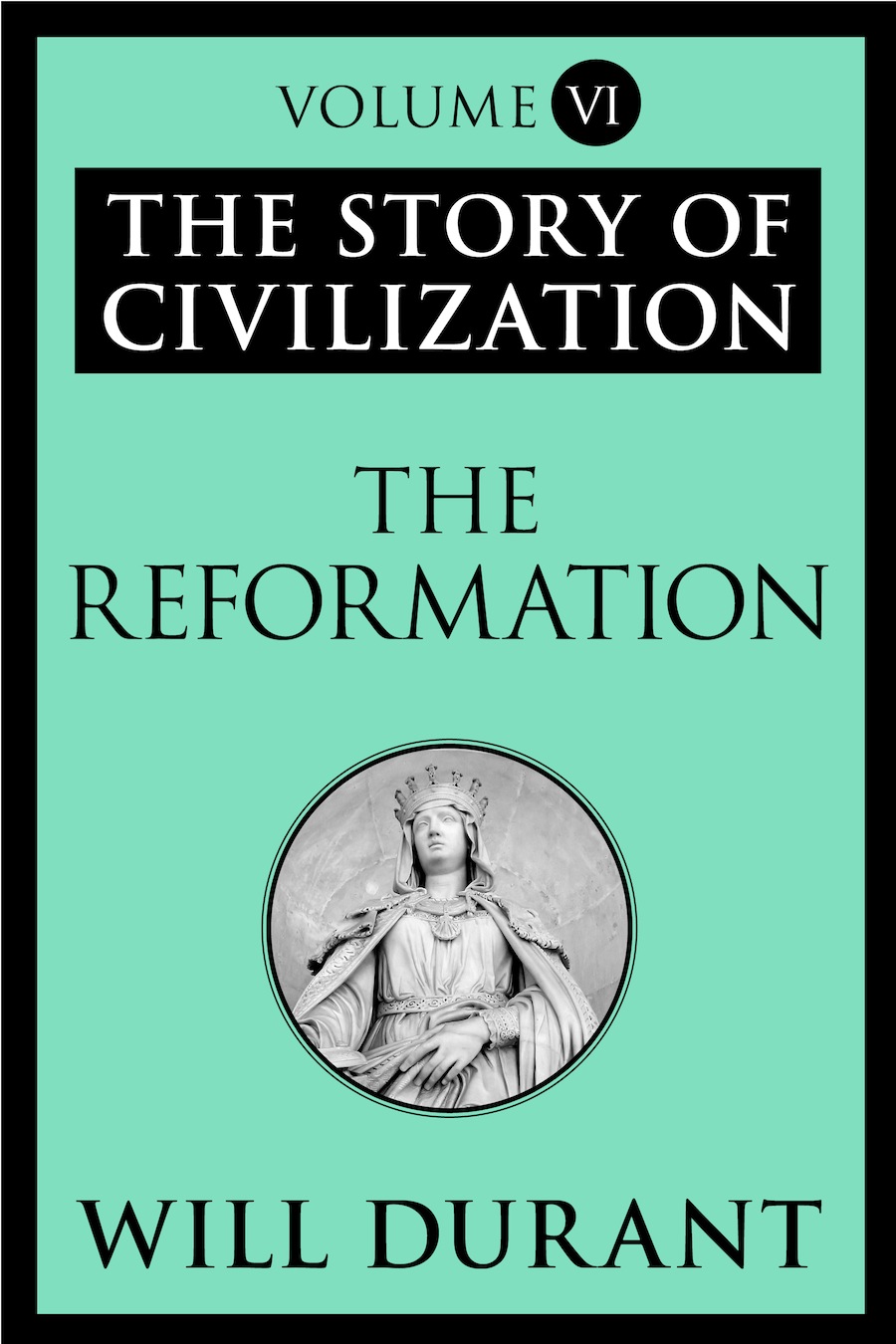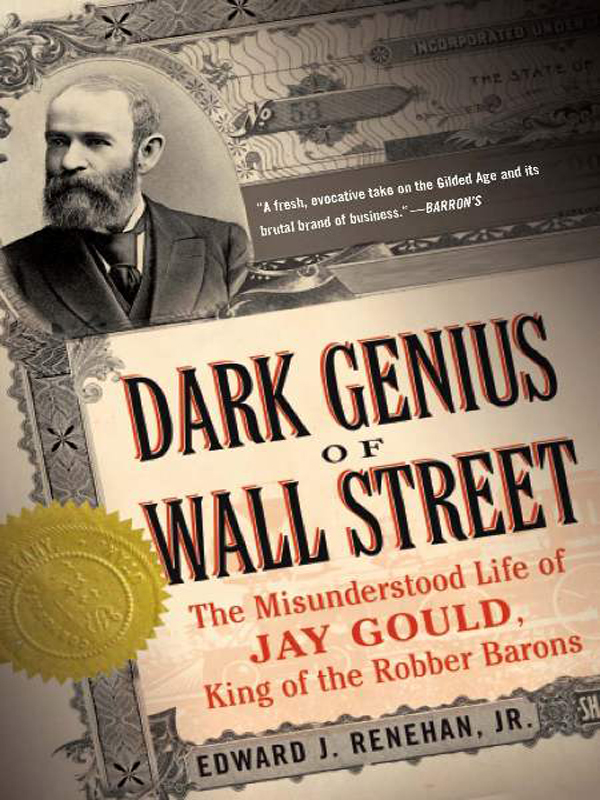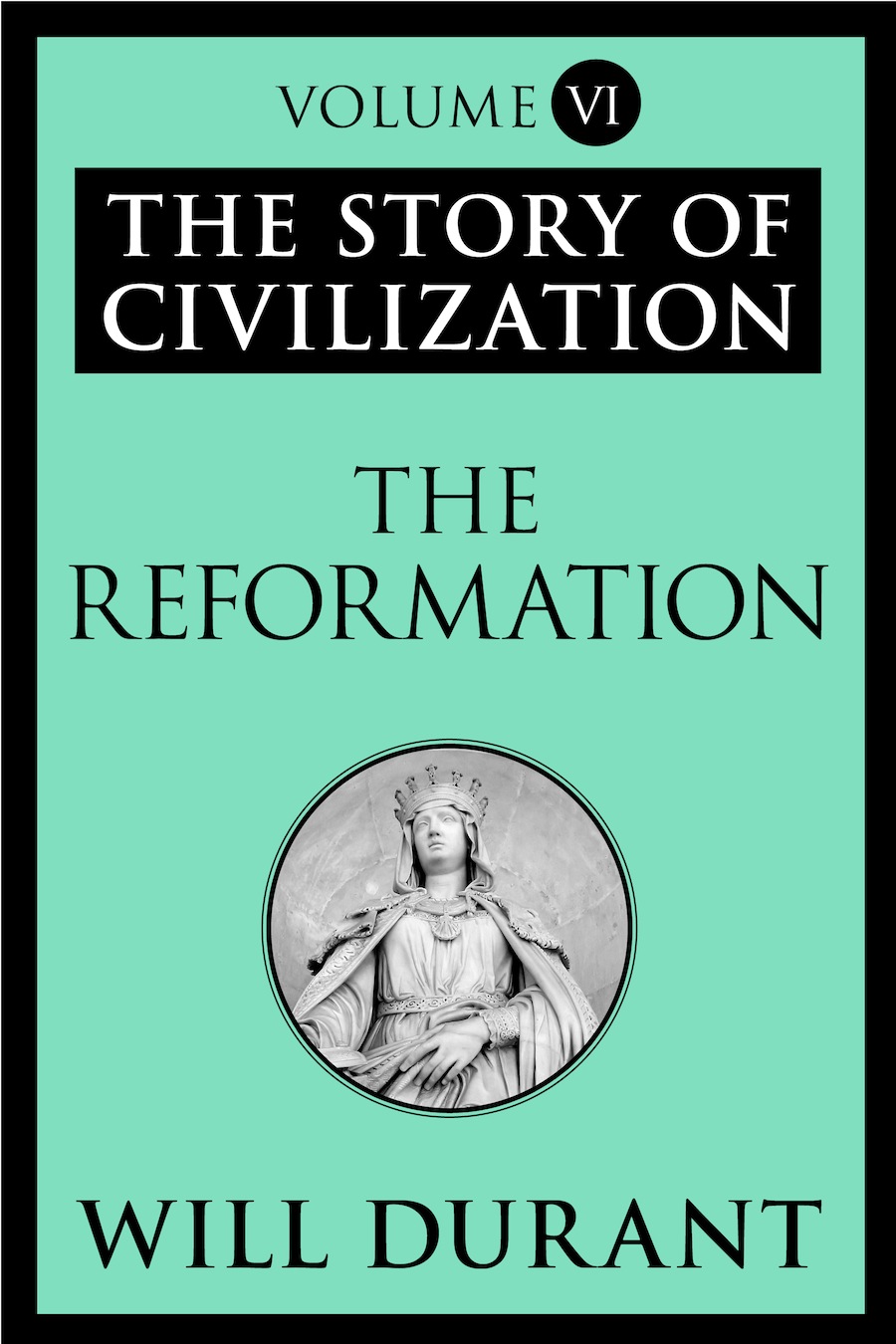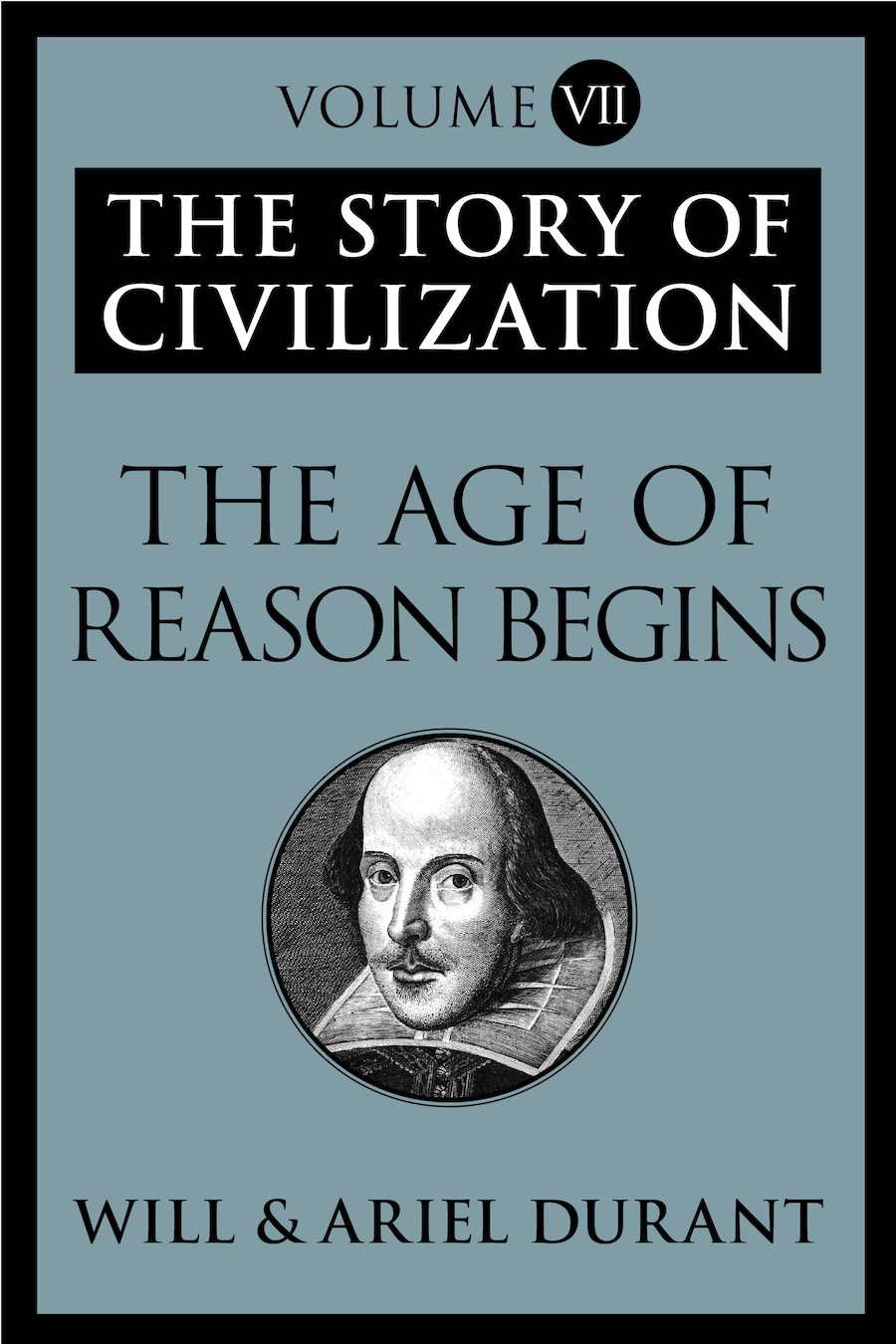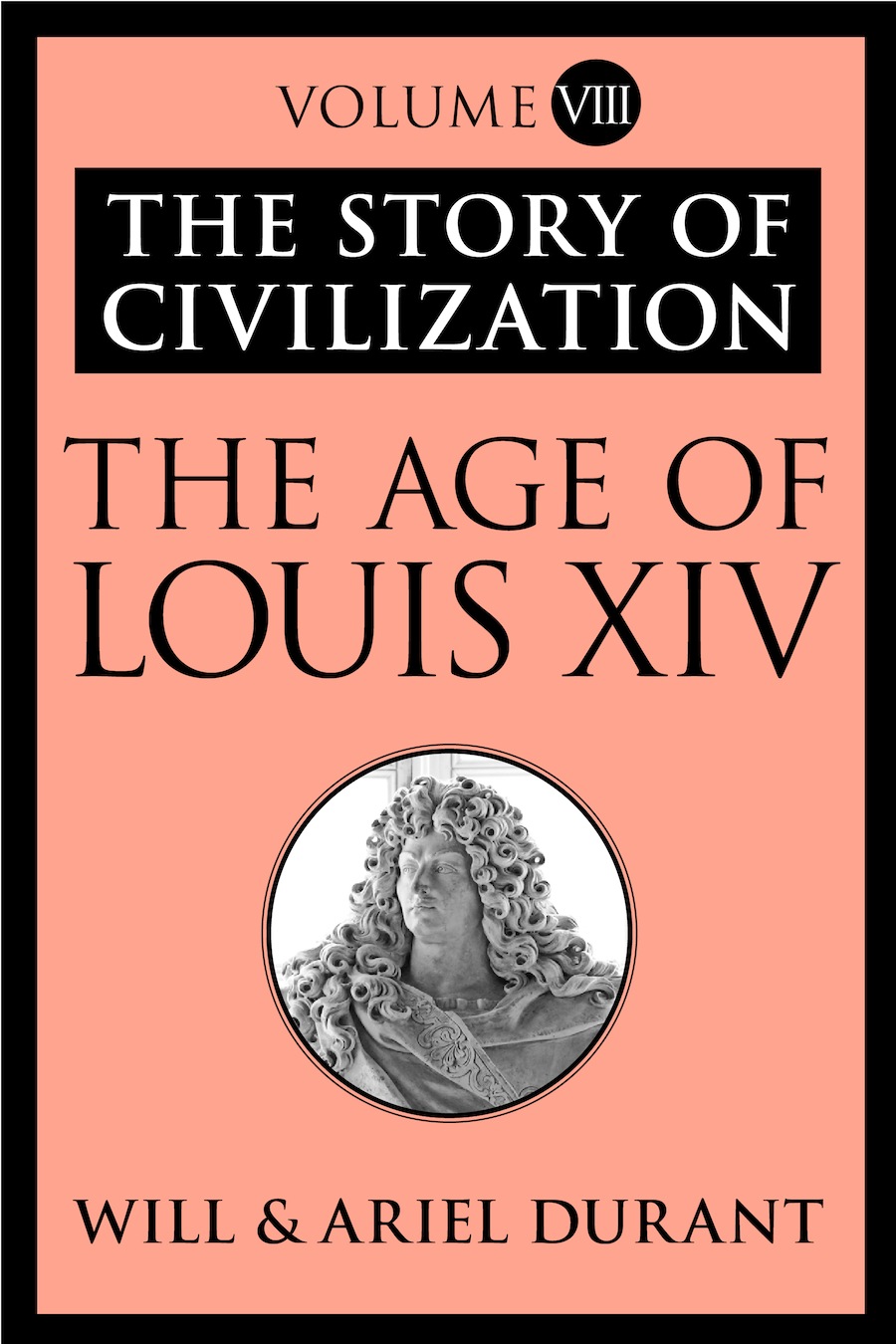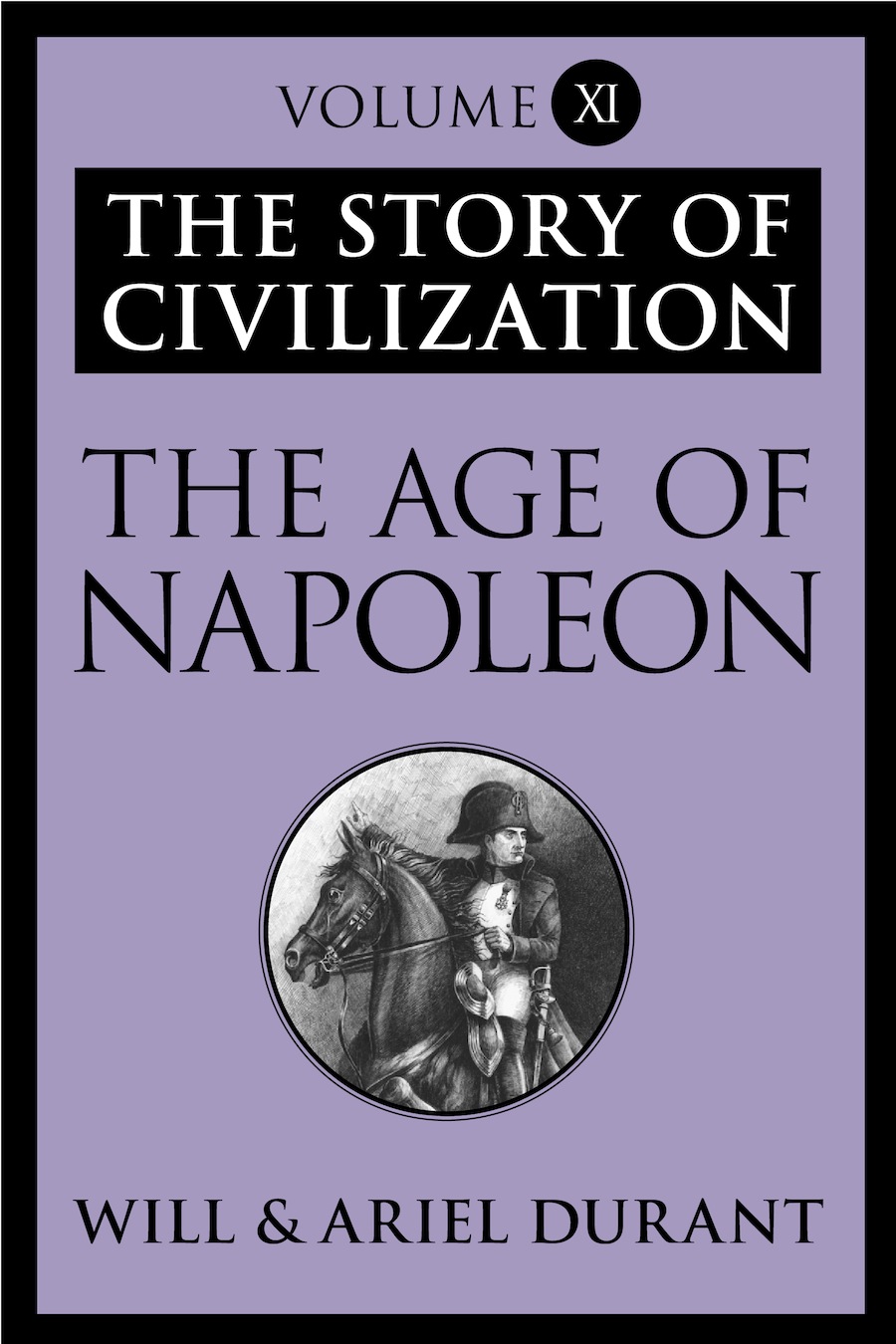монаха Джона и королевского утопического флота, чтобы найти Храм Святой Бутылки и узнать, стоит ли Панургу жениться. После целого ряда приключений, сатирически высмеивая пост, протестантских папоненавистников, фанатичных пап-обольстителей, монахов, торговцев поддельным антиквариатом, юристов («мохнатых котов»), философов-схоластов и историков, экспедиция достигает Храма. Над порталом — греческая надпись: «В вине — истина». В ближайшем фонтане стоит полузатопленная бутылка, из которой доносится голос, булькающий, ТРИНЦ, и жрица Бакбук объясняет, что вино — лучшая философия, и что «не смеяться, а пить…. прохладное, вкусное вино… вот отличительная черта человека». Панург счастлив, что оракул подтвердил то, что он знал все это время. Он решает есть, пить, жениться и мужественно переносить последствия. Он поет непристойные гимнические песнопения, а Вакбук завершает праздник благословением: «Пусть та интеллектуальная сфера, центр которой везде, а окружность нигде, которую мы называем БОГОМ, хранит вас под своей всемогущей защитой» (V, xlii). Так, с типичной смесью лубочности и философии, великий роман подходит к концу.4. Королевский шут
Какой смысл скрывается за этой бессмыслицей, и есть ли мудрость в этом демиджоне фалернско-приапийского веселья? «Мы, деревенские клоуны, — заставляет Рабле сказать одного из своих ослов, — несколько грубоваты и склонны выбивать слова из колеи» (V, vii). Он любит слова, у него их бесконечный запас, и он изобретает еще тысячи; он черпает их, как Шекспир, из всех профессий и занятий, из всех областей философии, теологии и права. Он составляет списки прилагательных, существительных или глаголов, как будто для удовольствия созерцать их (III, xxxviii); он умножает синонимы в экстазе избыточности; этот плеоназм уже был старым приемом на французской сцене.32 Это часть безграничного и неудержимого юмора Рабле, переполняющего его, по сравнению с которым даже юмор Аристофана или Мольера — скромная струйка. Его грубость — еще одна фаза этого неуправляемого потока. Возможно, часть из них была реакцией против монашеского аскетизма, часть — анатомическим безразличием врача, часть — дерзким вызовом педантичной точности; большая часть — манерой эпохи. Несомненно, Рабле доходит до крайности; после дюжины страниц мочеполовых, выделительных и газообразных подробностей мы устаем и отворачиваемся. Потребовалось бы еще одно поколение классиков, чтобы укротить такое вулканическое изобилие в дисциплинированную форму.
Мы прощаем эти недостатки, потому что стиль Рабле бежит вместе с нами, как и он сам. Это непритязательный, нелитературный стиль, естественный, легкий, плавный, как раз то, что нужно для рассказа длинной истории. Секрет его живости — воображение плюс энергия плюс ясность; он видит тысячу вещей, не замечаемых большинством из нас, подмечает бесчисленные причуды в одежде, поведении и речи, фантастически объединяет их и пускает эти смеси в погоню друг за другом по спортивной странице.
Он заимствует направо и налево, как это было принято, и с шекспировским оправданием, что он улучшает все, что крадет. Он помогает себе сотнями пресловутых фрагментов из «Адагии» Эразма,33 и следует многим указаниям из «Похвалы глупости» или «Бесед». Он усваивает полсотни пунктов из Плутарха за много лет до того, как перевод Амиота открыл эту сокровищницу величия для любого грамотного вора. Он присваивает «небесные рассуждения» Лукиана и рассказ Фоленго о самоуничтожившейся овце; он находит в комедиях своего времени историю о человеке, который сожалел, что вылечил свою жену от бессловесности; он использует сотню предложений из сказок и интерлюдий, дошедших до нас из средневековой Франции. При описании путешествий Пантагрюэля он опирается на повествования, которые вели исследователи Нового Света и Дальнего Востока. И все же, несмотря на все эти заимствования, нет автора более оригинального; только у Шекспира и Сервантеса мы находим столь пышущие жизнью творения воображения, как монах Джон и Панург. Однако сам Рабле — главное творение этой книги, это композиция из Пантагрюэля, монаха Джона, Панурга, Эразма, Везалия и Джонатана Свифта, лепечущих, бурлящих, разбивающих идолов, любящих жизнь.
Поскольку он любил жизнь, он гнобил тех, кто делал ее менее привлекательной. Возможно, он был слишком суров с монахами, которые не могли разделить его гуманистическую набожность. Должно быть, его когтями цапнул один или два адвоката, потому что он мстительно рвет их шерсть. Запомните мои слова, — предупреждает он своих читателей, — «если вы проживете еще шесть олимпиад и возраст двух собак, вы увидите этих юридических котов повелителями всей Европы». Но он обрушивает свой кнут также на судей, схоластов, теологов, историков, путешественников, торговцев индульгенциями и женщин. Во всей книге нет ни одного доброго слова о женщинах; это самое слепое пятно Рабле, возможно, цена, которую он заплатил, будучи монахом, священником и холостяком, за то, что никогда не заслужил нежности.
Партизаны спорили, был ли он католиком, протестантом, вольнодумцем или атеистом. Кальвин считал его атеистом; а «мое собственное убеждение, — заключал его любовник Анатоль Франс, — состоит в том, что он ни во что не верил».34 Временами он писал как самый непочтительный циник, как, например, на языке погонщика овец о наилучшем способе удобрения поля (IV, vii). Он высмеивал пост, индульгенции, инквизиторов, декреталии и с удовольствием объяснял анатомические требования к тому, чтобы стать папой (IV, xlviii). Он, очевидно, не верил в ад (II, xxx). Он повторял доводы протестантов о том, что папство истощает золото народов (IV, liii) и что римские кардиналы ведут жизнь обжорства и лицемерия (IV, lviii-lx). Он сочувствует французским еретикам; Пантагрюэль, по его словам, недолго оставался в Тулузе, потому что там «сжигают заживо своих регентов, как красные селедки», ссылаясь на казнь еретического профессора права (II, v). Но его протестантские симпатии, похоже, ограничивались теми, кто был гуманистом. Он с восхищением следил за Эразмом, но лишь слегка благоволил к Лютеру и с отвращением относился к догматизму и пуританству Кальвина. Он был терпим ко всему, кроме нетерпимости. Как и почти все гуманисты, когда его ставили перед выбором, он предпочитал католицизм с его легендами, нетерпимостью и искусством протестантизму с его предопределением, нетерпимостью и чистотой. Он неоднократно подтверждал свою веру в основы христианства, но, возможно, это было благоразумием человека, который, отстаивая свои взгляды, был готов пойти исключительно на костер. Ему так понравилось его определение Бога, что он (или его продолжатель) повторил его (III, xiii; V, xlvii). Он, по-видимому, принимал бессмертие души (II, viii; IV, xxvii), но в целом предпочитал скатологию эсхатологии. Фарель назвал его отступником за то, что он принял пасторство в Мёдоне,35 Но это было воспринято и дарителем, и получателем как просто способ питания.
Его настоящей